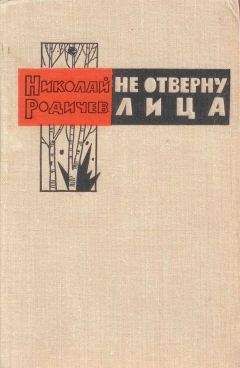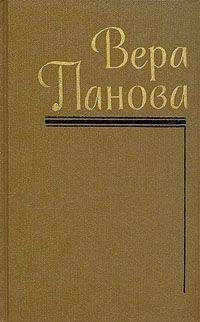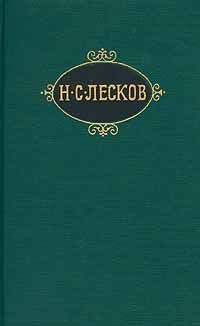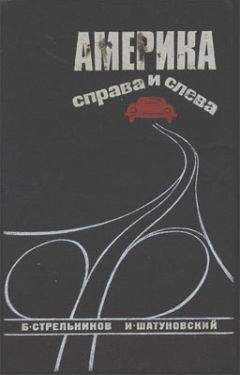Вчера на лекции Густава осенила мысль, осуществление которой, как он рассчитывал, всколыхнет весь университет. Сокурсники взревут от зависти, когда он, Густав Мюллер, заявится на факультет с нашивкой добровольца германской армии и вместо приветствия скажет им прощальное «Ауф видер зеен». Зубрите себе, скажет им Густав, хоть до второго пришествия господа бога на землю, а мне истина ясна: Гитлеру нужны не дипломаты, а воины...
Конечно, Вилли Шранке и Фриц Даугер бросятся по его стопам, но это уже будет повторение пройденного — не тот эффект. Да и пусть попробуют! Едва ли их в приемном войсковом пункте примут так, как приняли Густава.
Пока подошла очередь к декану, студент восстановил в памяти эпизоды своей беседы в войсковой канцелярии. Он просто-таки не мог без улыбки вспомнить о чудаковатом капитане Гельмуте Визе. Все дело в том, что капитан Визе оказался земляком Густава — из Фрейберга. Когда-то Визе руководил в городском клубе гитлерюгенда секцией вольной борьбы. Правда, Визе не запомнил Густава в лицо и даже не знает его имени, но зато какой он потешный.
Капитан предложил Густаву тут же, в его кабинете, помериться силами. Отлетев к дивану — маэстро был уже не тот! — капитан заржал от восторга. Бойцовские навыки Густава он полностью относил к своим личным заслугам.
— Узнаю свой стиль! — вопил Визе, хлопая Густава по плечу. — Леопард!
Просьбу Густава помочь с зачислением в вермахт Визе назвал сущим пустяком. Потребуется только бумажка от ректора университета. Все остальное он берется сделать сам. Если надо, он может сейчас же позвонить ректору — «этому рахиту с зонтом». Не пройдет этот номер — есть другие ходы.
— Во всяком случае, мой коллега Генрих Мюллер...
— Густав Мюллер, господин капитан, — поправил его студент.
— ...может быть спокойным за свою дальнейшую судьбу, если уж решил довериться капитану Визе. Разумеется, всякий подвиг вознаграждается — таковы уж армейские порядки... Но капитан Визе никогда не наживался за счет солдат. В данном случае Ганс... («Густав, господин капитан») легко отобьется от своего шефа одной бутылкой коньяку. А насчет имени — Иоганс тебя или Герберт — не все ли равно, как тебя нарекли обезумевшие от счастья предки? Надеюсь, они уже в земле? Тем лучше: меньше слез на прощание, меньше волокиты с письмами. Тетушку можешь послать туда, где ей удобнее. Притворись, что сосредоточен на более важных делах. Ведь для солдата войсковая дружба дороже всякого родства. У тебя будет номер — так удобнее и для живого, и для мертвого. Если ты приглянешься с какой-либо стороны взводному, он даст тебе кличку...
Говорливый капитан Визе усадил Густава на диван и предался воспоминаниям.
— Армия, мой дорогой, это немножко дисциплины и океан веселья... В моей роте, в Югославии, был автоматчик Генрих... номер шесть... Его звали Волкодав. А еще парень со шрамом на подбородке — Пожиратель голубиных яиц. И Эрик — Собачий хвост, и Руди — Гремящая ягодица, кажется, шестьдесят девятый номер. Парня из Гамбурга звали Коньячной пробкой, а старика Августа — Сентиментальной жабой... И бабники имелись — все со своими номерами: Развратник номер один, номер два и номер три. Это все из второго взвода... Был у меня снайпер с двумя кличками — Ювелир и Бледная спирохета... Но это уже за особые заслуги. Выбили левый глаз, а он смеется: удобнее стало целиться! За французскую кампанию — сорок две мишени! Ювелирная работа!.. Да, коллега: немножко дисциплины и океан веселья, — причмокнув языком, подытожил Визе. — Если бы не эта глупая история с племянницей югославского короля, которую мои ребята приняли за уличную девку... Уверяю тебя, я не оказался бы в этой берлинской дыре за тысячу верст от настоящей работы. Поверь, мне куда более по душе жить в обыкновенном блиндаже, чем в квартире с теплой уборной. Впрочем, ты, я вижу, торопишься. До скорой встречи! Все же, если по-прежнему веришь Гельмуту Визе, ты мог бы уже сейчас торпедировать меня этой самой бутылкой. И я с большей уверенностью расчищал бы тебе путь к славе...
«Конечно, — думал Густав в приемной декана, — капитан Визе был подвыпивши, и вообще он несколько сумбурный человек. Но черт с ним — за вторую бутылку спиртного он разрешил бы мне на денек заскочить к тетушке Элизабетт. В таком деле нельзя без родительского благословения, а тетушка для меня все равно что родная мать».
С тетушки мысли Густава перескочили на профессора Юхансена Раббе. Вполне далее вероятно, что декан воспротивится его желанию, станет отговаривать от опрометчивого шага. Он, наверное, и здесь напомнит свое жизненное кредо: «Тщательный анализ хорошо проверенных фактов, ясная логика и неторопливое решение...»
Ходили слухи, что в тридцать третьем году, когда начались гонения на социал-демократов, Раббе едва избежал виселицы. Его спасла профессиональная изворотливость дипломата, публичное отрешение от своих прежних идей. Он решился на жутковатую процедуру: бросил в костер все девять томов собственных сочинений по истории дипломатии — в них, вопреки утверждениям новых теоретиков гитлеровского райха, он проводил мысль об уважении к территориальной целостности и национальным обычаям соседних держав... Сейчас он с казенным усердием повторяет все, что сказал об этом Геббельс.
Однажды, весьма удовлетворенный ответом Густава на семинарском занятии, Раббе отозвал студента в сторонку и, покраснев, осторожно заметил, что был знаком с отцом Густава и сохраняет о нем приятные воспоминания как о человеке... Как о человеке! — зачем-то подчеркнул Раббе.
Густав ненавидел своего отца, Отто Гейнце. Он даже переменил по совету тетушки фамилию, чтобы формально не принадлежать к роду «красного Гейнце».
«Твой отец погиб в концлагере из-за упрямства: он не хотел отдать Гитлеру какие-то записки по физике...» Так утверждала тетушка Элизабетт, вызывая в душе усыновленного племянника отвращение к своим родителям: мать Густава покончила с собой, узнав о гибели мужа в фашистских застенках.
Густав опасался, что декан факультета, его университетский наставник профессор Раббе, сейчас может помешать с уходом в армию, некстати напомнив гестапо о родословной студента.
Раббе встретил его приветливо, но тут же улыбка сошла с его изборожденного старческими морщинами лица, когда он прочел поданную ему бумагу.
— Я не хочу оказаться лишним человеком в империи, профессор... — добавил к написанному студент.
Раббе пожевал выцветшие губы, задумался, поправил на переносице легкие очки в золотой оправе. В белесых ресницах засветился погасший было огонек. «О, этого человека не просто положить на лопатки!»
— Разве Германия порвала связи со всем миром или система государств с установившимися на протяжении веков институтами посольств оказалась непрактичной? Вам удалось разработать новые нормы взаимоотношений с другими странами? — с мягкой иронией полюбопытствовал Раббе.
— Я не столь опытен в разработке норм и правил, как скажем, вы... или доктор Геббельс, — не растерялся Густав, — поэтому мое прошение касается только лично моих взаимоотношений с университетом. Не больше. И не дольше сегодняшнего дня. — Студент воспользовался паузой и добавил уверенно: — Германии в скором будет просто не с кем продолжать дипломатические отношения. Да и все эти петены, хорти, квислинги — они лучше германских дипломатов могут осуществлять наши интересы в побежденных странах.
— Но, Густав! — воскликнул профессор, теряя самообладание. В таких случаях он незаметно для самого себя переходил на «ты». — Что скажет цивилизованный мир, когда узнает, что германские дипломаты пересекают границы других государств по-пластунски и вместо верительных грамот пускают в действие минометы?
— Я маленький человек, господин профессор. Собственная судьба меня интересует больше, чем мнение мира. Этот мир существует лишь во мне, пока я жив. Не так ли утверждает Кант? Франция пала, Англия блокирована — где этот мир, к мнению которого я должен, по-вашему, прислушиваться?
— Англия!.. Гм... Франция!.. — с непонятным для Густава оттенком пренебрежения выкрикнул профессор. Затем, очевидно, смутившись — разговор в самом деле был неприятным для него, — тихо изрек: — Англия и Франция даже в лучшие для них времена не были всем миром. Да, да, Густав... не были... надеюсь, это ты тоже слышал в стенах нашего университета?
— Я готов согласиться с вами, профессор. Но то, что случилось в России... Разве не смешно?..
Густав не договорил. Он вкрадчиво глянул на профессора и по всей его осунувшейся фигуре догадался: «Старая ворона» сложила свои крылья. Раббе опустил нос книзу. Очки медленно ползли по этому носу, пока профессор не догадался их придержать.
Раббе затем снял очки — это означало окончание разговора. Так было и на лекциях и во время экзаменов: если Раббе отложил очки в сторону и замигал подслеповатыми глазами, бормоча что-то себе под нос — он удручен, уходит в себя...