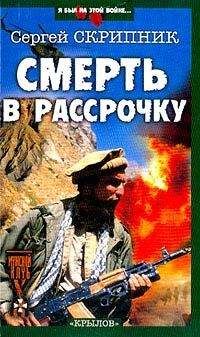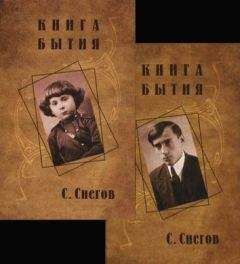Половников встал из-за стола, открыл несгораемый сейф, достал из него бутылку «Сибирской», литровую банку с маринованными огурчиками и обрезок копченой «московской» колбасы.
— Вот моя главная документация, которую я берегу как зеницу ока для всяких там торжественных случаев.
Наблюдая за манипуляциями полковника, я вгляделся в темноту сейфа, и по моей спине пробежал холодок. Из его мрачной утробы на меня в упор смотрело… лицо полковника Половникова.
— Что это, А-а-аркадий Савельевич? — от неожиданности я даже стал заикаться, чего прежде за мной никогда не наблюдалось.
— А! Это! — Полковник засмеялся и вынул из сейфа свою голову. — Есть у нас тут один умелец.
— Вот это да! — Моему восхищению не было предела. — Впрямь голова профессора Доуэля. Подумать только, одно и то же лицо, в жизни бы не отличил.
— Так вот, — повторил Половников, — есть тут у нас один умелец. Самородок! Народный талант! Служил в Нангархаре, незадолго до твоего откомандирования сюда. Отчаянный человек, старший прапорщик Каравайчук, две Красные Звезды плюс «Отвага», стопроцентный хохол. Слышал что-нибудь о нем?
— Нет, товарищ полковник.
— Ну, оно и понятно: ты у нас — человек занятой, все время торчишь в своей глухомани, тебе культурной жизнью родного соединения интересоваться некогда, — с некоторой издевкой в голосе произнес полковник и продолжил свой рассказ: — Ранило его тяжело, пуля раздробила колено. Три месяца валялся он в Ташкентском госпитале, левую ногу хотели отнять, но он уговорил врачей, чтобы те не торопились, и, представь себе, таки выкарабкался. Правда, остался безнадежно хромым. Собирались отправить в отставку, так он прямо с больничной койки выпросил поездку в Афган, якобы для того, чтобы попрощаться с однополчанами, а когда приехал, бухнулся в ноги адъютанту командующего и просил оставить при 40-й армии, найдя хоть какое-то применение.
— Отчего же так? — поинтересовался я.
— Одинок он, родных на Украине никого. Семейное положение — бобыль. Словом, некуда и не к кому ему было возвращаться. — Половников тяжко вздохнул. — Генерал долго упирался, но Каравайчук оказался настойчивым типом, добил-таки его, да и я подсобил ему, как старому своему товарищу.
— И каким же это образом?
— Да вот самым что ни на есть невероятным. Пока старший прапорщик бегал по инстанциям, определили его на постой в подвале Тадж-Бека, а он там организовал художественную мастерскую, привез из Джелалабада свои картины, скульптуры. Оказалось, он превосходный художник. Все остальные в свободное время пьянствуют, из банно-прачечного батальона или узла связи не вылезают, девчат наших, значит, оплодотворяя, а этот на досуге пейзажи малюет, из глины головы отличников боевой и политической подготовки лепит. Однажды встречаю его в штабе армии, а он мне: «Товарищ полковник, не уделите ли полчаса старому другу?» Я-то думал, что он меня выпить приглашает, а он завел в какую-то каморку, обмазал рожу гипсом, снял с нее что-то вроде посмертной маски, я ничего толком и сообразить не успел. «Ждите от меня подарочек аккурат ко дню Советской армии», — говорит.
— Ну и?
— Что ну и? Появляюсь 23 февраля при полном параде на службе, захожу в свой кабинет и вижу: моя голова без меня уже здесь, стоит на столе, руководит, значит. Этот шельмец хохлячий, оказывается, вылепил ее из воска и рано утром мне свой подарочек на стол подбросил. Мадам Тюссо, елы-палы!
В отличие от Сени Коляды, который был тогда не то что сейчас — глуп, наивен, малообразован, мне не надо было объяснять, кто такая мадам Тюссо. Я не большой знаток искусства вообще, но изделие прапорщика Каравайчука, которое окрестил про себя «Голова незабвенного героя афганской войны прокурора полковника Половникова Аркадия Савельевича после того, как ему снесло башню», действительно впечатляло.
— Хорош п-п-подарочек, ничего не скажешь! — оценил я. — Я вот до сих пор заикаюсь.
— И я, представь себе, Звягинцев, когда эти художества увидел, чуть обмундирование позорно не обмарал, — признался полковник и как бы в свое оправдание добавил: — Да любой бы на моем месте струхнул. Голова ведь как живая, точнее, отрезанная, и есть в ней что-то такое зловещее, чего нет в оригинале. Ты не находишь?
Я милостиво согласился, дав понять кивком, что нахожу.
— Показал я потом эту голову высокому начальству, убедил, что нужен нам здесь, вдали от Родины, куда редко кто приедет, чтобы запечатлеть в живописи и скульптуре наши повседневные будни, свой художник. Там затылки себе поскребли, прикинули, что к чему, да и оставили Каравайчука в Тадж-Беке. Между прочим, кличка Мадам Тюссо к нему прилипла с моей легкой руки.
— И что с ним сталось теперь, вашим народным самородком с женским именем? — Моему любопытству не было предела.
— А я тебя с ним обязательно познакомлю. Он часто заходит ко мне. Вы просто никогда не пересекались. Теперь он — армейская знаменитость! Выставляется в Москве, других городах. Замечен на самом верху. Недавно один важный московский «пуриц» в штатском приезжал, надутый как индюк, распорядился окружить Каравайчука всяческой заботой и оказывать всемерную поддержку его творчеству. Сейчас готовит постоянную выставку для Центрального музея Вооруженных сил в Москве, создает галерею воинов-афганцев, которые ничем себя особо не проявили, обычные парни, которых слава обошла стороной.
— Почему их? — спросил я. — Герои перевелись, что ли?
— Ну, он, значит, считает, что подвиги — это праздники жизни, а монотонная армейская действительность от подъема до отбоя — ее будни. И на них, этих самых буднях, мол, вся афганская кампания и держится. Философия, значит, у него такая. С аллегорией.
— А я, между прочим, товарищ полковник, — прервал я Половникова, — ничего не имею против такой философии.
— Да я в принципе тоже, — согласился Аркадий Савельевич.
— Так давайте, товарищ прокурор, выпьем за будни! — провозгласил я тост.
— Давай! — поддержал меня полковник.
После второй рюмки обоих с отвычки немного понесло. Накатилась усталость. Дальше пили, тупо уставившись на восковую голову полковника Половникова, обложенную выпивкой и закуской, разговаривали неспешно практически ни о чем.
— Да, и вот еще что. — Прокурор вдруг вернул меня к реальности. — Там, наверху, — он картинно ткнул пальцем в потолок, — есть мнение, что в этом деле повязано немало наших, вплоть до Генштаба и ЦК КПСС. Если найдем таковых рядом с нами, будем изобличать сами.
— Ясен перец, что без наших здесь не обходится, — согласился я с первой частью полковничьих предположений, а вот по поводу второй резко возразил: — А с какой такой радости, Аркадий Савельевич, мы должны так себя загружать. У нас каждый день нарастает как снежный ком ворох реальных уголовных дел. Я, например, тону в бумагах, вы тоже. А тут речь идет о каких-то гипотезах, предположениях, смутных версиях, в которых мы обязательно увязнем. Нет, в такой ситуации изобличать своих означает отбирать хлеб у особистов и контрразведки. Пусть они сами этим занимаются, а мы подключимся, когда действительно появится след, который можно будет идентифицировать.
— Нет никаких особистов и контрразведчиков, — резко оборвал меня полковник. — Были, да все вышли. Отравились на пакгаузе колбасой. Будешь делать то, что я тебе прикажу. И докладывать о ходе расследования ежедневно, лично мне, и чтобы в каждом рапорте содержался хоть какой-то позитивный момент.
Время было уже позднее. На том и разошлись. Через час последним вертолетом я улетел обратно в Джелалабад.
* * *
— Ну, любуйся, боец, своим альтер эго. — Каравайчук широко улыбнулся и сдернул рогожку с предмета, бугрившегося на тумбочке.
Коляда вздрогнул, увидев результат его работы. Казалось, что восковая голова — это его собственная, отделенная от тела. В этом он видел нечто зловещее, пронизывающее страхом до самого нутра. Но шок быстро прошел. Его сменил восторг.
— Класс, товарищ старший прапорщик! — только и смог произнести ефрейтор. — Как живая!
— Как живая, но все равно мертвая, — сказал Каравайчук. — Зато воск лучше другого скульптурного материала передает все детали и нюансы внешности. Поэтому с точки зрения художественной техники — это искусство самое правдивое.
— А это что? — спросил Коляда.
Рядом с его восковой головой возвышалось нечто, также прикрытое рогожкой.
— А это, сынку, — пояснил Каравайчук, — еще один шибздик вроде тебя. Ефрейтор Косовец. Ему, правда, повезло немного больше, чем тебе. Демобилизуется раньше, уже через две недели будет в Союзе. Его тоже жду, чтобы показать, да вот что-то он у меня припозднился. Хотел тебя ему представить, да, вижу, не удастся. Тебе же, наверное, в город хочется?
В город Коляда как раз и стремился, но хотелось поговорить со старшим прапорщиком, поинтересоваться его жизнью, рассказать о себе. Каравайчук был хорошим собеседником, говорил, казалось, все без утайки, слегка приглушенным голосом, в разговоре всячески демонстрировал благожелательность.