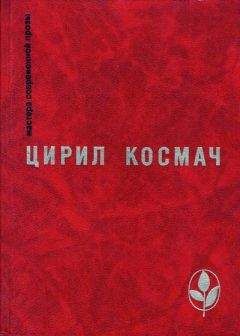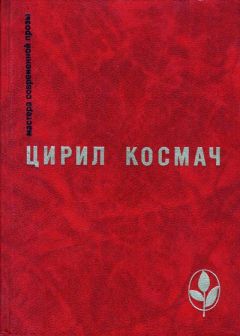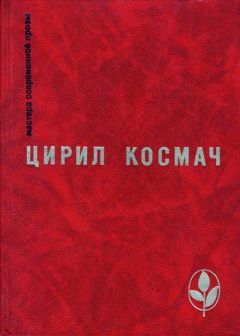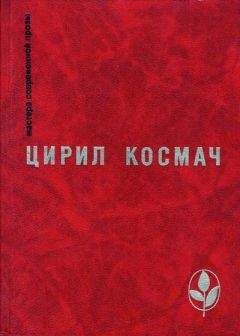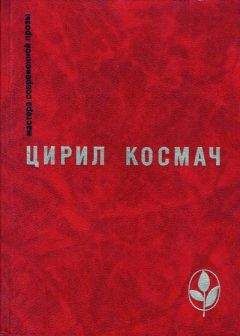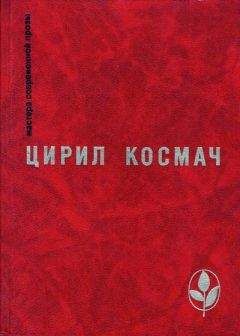И тут в сенях раздались шаги. Тетя умолкла. Дядя, сидевший за столом, обернулся — и по его слегка смущенному лицу я мгновенно понял, что в сени вошла Кадетка.
«Как в плохой пьесе», — подумал я, но эта мысль тотчас исчезла, вытесненная волнением. Я слушал, как ее ноги торопливо ступали по половицам, слушал и слушал. Прошла, казалось, вечность, прежде чем Кадетка появилась в дверях. Она была в точности такой, какой я представлял ее себе: среднего роста, полная, круглолицая, большелобая, с сочным ртом, большими синими, немного грустными глазами; короче, все было нормальным, и не было ничего необычного, волнующего. Необычным и волнующим было только то манящее, мягкое и привлекательное, чем веяло от всего ее существа и что сразу наполнило комнату каким-то невидимым, лишь ощущаемым светом. За плечами у нее сидела кудрявая двухлетняя девочка и маленькими загорелыми ручонками ворошила Боженнны густые волнистые волосы цвета спелой пшеницы.
— О, Божена! — воскликнул я и шагнул ей навстречу.
— Кадетка! — поправила она с лукавой усмешкой и обтерла руку о платье, чтобы пожать мою.
— А это Сильвия, — сказал я и потянулся к девочке.
— Знаешь уже? — счастливо улыбнулась она.
— Знаю… Ну, как живешь?
— Да ничего. Комитет помогает, пока мой Итальяша не вернется. Тебе уж, наверно, сказали о нем?
— Только что, — кивнул я.
— Я его люблю. Только бы он вернулся, — сказала она, понизив голос и вопросительно глядя на дядю и тетю.
— Что это ты говоришь! — накинулась на нее тетя с такой резкостью и горячностью, что даже я посмотрел на нее с подозрением. — С какой стати он вдруг не вернется?
Божена стремительно повернулась ко мне. Ее глаза вспыхнули.
— А ты ничего не знаешь?..
Я отрицательно покачал головой.
— Потерпи, — сказал я. — Ведь война кончилась только шесть дней назад.
— И правда, мне не терпится, — призналась она. И чтобы переменить разговор, снова посмотрела на меня и сказала: — Долго мы не видались.
— Пятнадцать лет…
— Пятнадцать, — задумалась она. — Много чего за это время случилось… Долго тут пробудешь?
— До воскресенья.
— В деревню-то пойдешь?
— Нет, не пойдет, — сказал дядя. — В лес его тянет. И признаться, я бы лучше пошел с ним, чем стращать народ своей берданкой.
Кадетка вопросительно посмотрела на меня — мол, в какой это лес меня тянет?
— На Вранек я собрался, — пояснил я.
— За ландышами?
— И за ними тоже. Если они уже есть.
— Да уж найдутся… А помнишь, как мы за ними ходили, когда ты вернулся из тюрьмы? Я это так хорошо помню… Ой, до чего давно я не была на Вранеке. Теперь я живу на другой стороне и мне не с руки. Знаешь что, — воскликнула она, — возьми меня с собой!
— Да ты рехнулась, что ли? — крикнула тетя, глядя на нее и строго и испуганно. — Это с ребенком-то?
— А почему бы и нет? — вступился я. — Я ее на закорках понесу.
— Неси, она не тяжелая, — весело согласилась Кадетка. — Пошли, — сказала она и встала.
— Я тоже пошел, — сказал дядя. — По околотку, как говаривал покойный Тестен. Погляжу, не надо ли кого в холодную посадить, — попробовал он пошутить, но было видно, что ему не до шуток. — Загляни к нам. Если не в дверь, то хоть в окно. — бледно улыбнулся он мне и вышел.
Мы вышли следом за ним во двор. Когда дядя скрылся за хлевом, я подошел к кусту и вырезал себе и Кадетке по палке.
— С ума ты сошла! — снова закричала тетя и посмотрела на Кадетку очень серьезно.
— Нет, мы пойдем! — ответила Божена, подтягивавшая шнурки на ботинках.
— Подождите, — сказала тетя. — Раз так, и мне придется с вами пойти.
Мы с Кадеткой недоумевающе переглянулись, но возражать не стали.
Тетя надела три пары шерстяных носков, отцовские башмаки, взяла палочку и первой ступила на тропинку, проговорив с необычной для нее решительностью:
— Ну, пошли!.. — И глубоко вздохнула — мол, на все божья воля.
Я поднял Сильвию, посадил ее себе на плечи, и мы двинулись.
Отправляясь в путь со старым человеком, мы пропускаем его вперед. Таким образом мы оказываем уважение к старости и притом умеряем свою молодую прыть, щадя его ослабевшие, подгибающиеся ноги. Вот и мы с Кадеткой пристроились за тетей, которая с трудом подымалась по крутому, каменистому, осыпающемуся склону.
Пройдя всего несколько шагов, я почувствовал, что в душе у меня нет прежней ясности. Я огляделся, точно желая в окружающем мире обнаружить облако, затмившее солнце на моем внутреннем небосклоне. И открыл его: мой взгляд остановился на тете, которая в своем выцветшем трауре двигалась впереди Кадетки. Я собрался было спросить себя, зачем она карабкается вместе с нами, но в тот же момент мне все стало до того ясно, что я остановился. Меня охватил страх, колени дрогнули, и, боясь, как бы Сильвия не слетела у меня с плеч, я слишком крепко сжал ее ножки, и она пискнула. Тут я увидел перед собой Кадеткины ноги, которые резко повернулись и стали.
— Чуть не споткнулся, — пробормотал я, оправдываясь, и решительно ринулся вперед, и Кадетка повернулась и продолжила путь. Отыскивая немеющими ногами твердую почву среди подвижных камней, я с досадой спрашивал себя, как же я не догадался раньше. Вскоре я должен был себе признаться, что сразу понял это. Понял, что Джино нет в живых. Почувствовал это из тетиного рассказа и со всей непреложностью ощутил в тот момент, когда Кадетка занесла ногу на порог нашего дома, а тетя не успела произнести беспощадного слова — погиб. Но как мог я забыть об этой смерти? Наверное, я забыл о ней потому, что приход Кадетки застал меня врасплох. При первом звуке ее шагов нарушился ход моих мыслей. Я превратился в сплошное ожидание и ждал только ее, ее, вне всякого ее окружения. Поэтому Джино померк и исчез, как исчезает из наших мыслей самый симпатичный и несчастный человек, которого мы не знали лично или не успели составить себе впечатление о нем через восприятие самого близкого нам человека. Когда Кадетка показалась в дверях кухни и посмотрела на меня, своей первой легкой улыбкой она затмила все, о чем говорили тетя и дядя. Меня захлестнуло радостное ощущение жизни. И потому я весело и беспечно, как дитя, принял ее простодушное предложение пойти со мной за ландышами.
А теперь?.. Теперь Джино нежданно возвратился. Осиянный солнцем Кадеткиной любви — и ее надвигающейся скорбью, о близости которой она еще не догадывалась и которая вдыхала в эту любовь последний, самый жгучий пламень, — Джино виделся мне гораздо яснее, чем из многословного тетиного рассказа. Раньше он был для меня просто неким Джино, добрым и симпатичным парнем; теперь, когда Кадетка шла впереди меня, он шел рядом с нею и был ее возлюбленным. Любовь в самом деле — свет, в самом деле — солнце: если она озарит человека во всю силу своих лучей, то, каким бы он ни был заурядным и чужим, она отыщет в нем жемчужину, которая засияет и своим блеском осветит и согреет весь его облик. Только теперь я по-настоящему видел этого молодого карабинера, который заплакал, когда Обрекаров Борис не захотел взять его белый, но итальянский хлеб. Я увидел необычайно простого и искреннего умом и сердцем итальянца, который был так захвачен любовью, что отбросил свою винтовку и взял чужую и осознал, что она не чужая, а общая для всех, кто любит, и потому пошел с нею в бой против своих. Я увидел молодого отца, который кружился по нашей закоптелой кухне, размахивая автоматом и налетая на стены, — так радовался он своему ребенку… тому ребенку, который сидит сейчас у меня на закорках и теплыми ручками хватает то за уши, то за волосы. Да, он снова здесь, Кадеткин итальяша, партизан, которого больше нет. Он мертв, а Кадетка этого не знает. Не знает. Хотя предчувствие я уже ощутил в ее взгляде. И наверно, убегая от этого темного предчувствия, она так весело захлопала в ладоши, узнав, что я собрался на Вранек, и с детской радостью просила меня взять ее с собой. И вот мы идем. Впереди тетя, которая знает все. Я искал предлог, чтобы вернуться, но никак не мог придумать ничего приемлемого, голова была пуста.
Мы перешли через ручей. На минуту остановились на скале, приходившейся как раз над нашей усадьбой, чтобы по старой крестьянской привычке еще раз попрощаться с домом, а лотом начали подыматься по узкой извилистой тропинке. Я посмотрел на крутой, почти отвесный зеленый склон, и в памяти моей возникла другая процессия, медленно двигавшаяся по этому склону за цинковым гробом, который на широкой спине Подземлича блестел в лучах майского солнца, такого же, как сейчас.
Они подымались к Вранеку за молодым чешским кадетом, за останками несчастного Кадеткиного отца. Я ясно видел грубияна Мартина, раздраженно встряхивающего железный ящик с Андрейчевым паяльным инструментом; Жефа Войнаца, равнодушно сплевывающего сквозь зубы коричневую табачную слюну; своего отца, задумчиво поглаживающего ладонью горбинку орлиного носа; бригадира карабинеров, услужливо снующего возле светловолосой невесты, дабы в любую минуту подхватить ее, если она поскользнется; полную даму в трауре, тяжело опирающуюся обеими руками в черных перчатках на длинную палку, точно она переходит вброд стремительно несущуюся реку; толстяка Модрияна, который семенит за ней, вытирая свою блестящую лысину. Все это я увидел так ясно, словно они сейчас подымаются по склону, а я смотрю на них снизу, с нашего двора. И мне представилось, что я стою около дома; прежде всего я увидел маму, потом сестер и себя, двенадцатилетнего мальчишку. Мы стояли под грушей и смотрели на зеленый склон холма. И эта картина тоже была такой живой, что я невольно оглянулся назад, на дом. Под грушей не было ни души, и, когда я повернулся спиной к этой пустоте и зашагал дальше, там, внизу, остался мой разочарованный взгляд, созерцающий наш поход: тетю в выцветшем трауре, Кадетку в синей юбке и белой кофточке, меня в потрепанной партизанской форме и Сильвию в розовом платьице, сидящую у меня на плечах. Наша процессия была короче той, но такая же тихая и печальная, только гроба не было впереди.