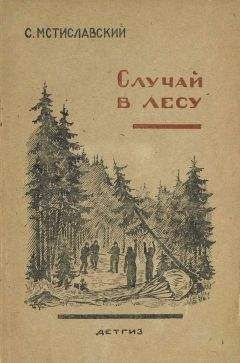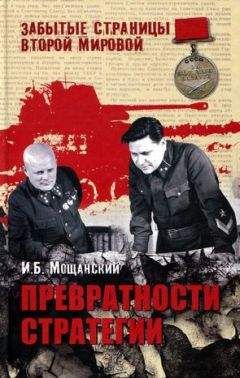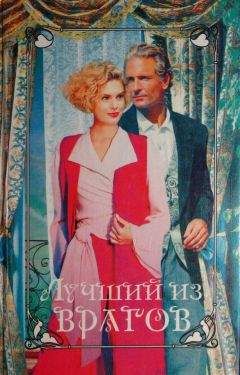– Я иностранка, господин офицер, русская!
– Русская? – он опять схватил ее за волосы. – И сбежала из лагеря! Что ты делала в развалинах – грабила?
– Обыщите меня!
Да теперь-то пусть обыскивают, подумалось ей, а вот если бы не произведенная бандой конфискация, она сейчас могла бы и в самом деле здорово влипнуть; возможно, банки консервов было бы достаточно, чтобы пришить ей мародерство, а так – что с нее взять? – Мы тут работали несколько дней назад, а во время налета нас завалило, я и сама не знаю, как выбралась!
Подошел второй шуцман. Таня попыталась встать, но первый положил резиновую дубинку ей на плечо и нажал, велев не двигаться. Так, сидя между ними на земле и поглядывая то на одного, то на другого, она повторила то же, о чем рассказывала хайотам,[30] – про гибель обоих лагерей, про последний дневной налет, заставший их во время работ по расчистке. О подвале с его населением умолчала, сказав, что была с ней еще одна женщина, но, видно, заблудилась или пропала.
– В келлере, где нас завалило, было немного еды, – добавила она, чтобы рассказ выглядел правдоподобнее, – поэтому я и уцелела, раскопала дверь и потом вылезла...
– Где, в каком месте?
– Не знаю, господин офицер, клянусь вам, не знаю, уже была ночь, а потом эти гады меня схватили и приволокли сюда – разве я могла запомнить дорогу? – посмотрите, что они со мной сделали, я вся в синяках!
– Синяков у тебя значительно прибавится, это я тебе обещаю, моя милая, если ты не выложишь все, как есть, – объявил второй шуцман, – не очень-то в твоей истории сходятся концы с концами! Ну ничего, сейчас мы тебя отведем в ревир,[31] там сразу все вспомнишь. После хорошей лупцовки, а?
Таня опять разревелась в голос – не столько даже от страха, сколько чтобы произвести благоприятное впечатление.
– Да за что же меня лупцевать, – вопила она, – я и так все рассказала, проверьте, когда сгорели казармы «Принц Ойген», когда сгорел «Шарнхорст» в Штееле – там я вообще была переводчицей, меня высоко ценил лагерфюрер господин Хакке!
– Мол-чать! – рявкнул первый. – Ну-ка вставай! И не вздумай убегать, существо из болота!
– Куда мне убегать, сами подумайте, – опять к этим бандитам?
В ревире, как ни странно, все обошлось благополучно – если не считать того, что ее до вечера продержали голодной, а потом, дав миску жуткой – куда хуже лагерной – гемюзы, заперли в камеру к так называемым «асо» – разного рода воровкам, шлюхам и тому подобной публике. Хорошо еще, их там было много, и новенькую они проигнорировали. Одна, правда, поинтересовалась, нет ли у нее курнуть, и, узнав, что нет, обозвала Таню непотребно; Таня же, чей лексикон за время пещерной жизни в котельной значительно обогатился и стал разнообразнее и красочнее, выдала в ответ еще похлеще, после чего ее оставили в покое. Возможно, признали за свою.
Все было бы хорошо, если бы не страх перед обещанной лупцовкой. Таня не знала, когда здесь допрашивают, днем или по ночам, а спросить у сокамерниц не решалась – боялась, что распознают иностранку, вдруг они еще и шовинистки? Придушат запросто, и не пикнешь. От страха она долго не могла заснуть, все ждала вызова на допрос, а потом все-таки заснула и проспала до самой побудки. Вызвали ее только вечером – вывели наружу и посадили в «зеленую Минну». Ехали довольно долго, а когда открыли дверцу, рядом была стена барака и кусок ограды с колючей проволокой. В барак она вошла со страхом, ожидая увидеть полосатые платья с номерами, но оказался обычный рабочий лагерь – сюда собрали остарбайтеров из разных мест, из Эссена, из Ботропа, из Гельаснкирхена. Все сплошь погорельцы, выжившие после налетов.
Девушка, наблюдавшая в окно за Таниным прибытием, спросила, чего это ее привезли с полицией?
– Значит, надо было, – ответила она туманно.
– Ото ж тебя били там? – в голосе спрашивающей прозвучало боязливое уважение.
Таня осторожно потрогала подсыхающую ссадину на скуле и собралась было уже ответить, что где же еще, но не захотела возводить напраслину на щуцманов – как-никак, они ей ничего плохого не сделали. А признаться, что исколотили и исщипали гаденыши хайоты, было стыдно.
– Еще неизвестно, кто кого бил, – сказала она высокомерно. – Меня почему-то посадили к асоциальным, так что сама понимаешь.
– К кому, к кому?
– Ну, к уголовницам. А это еще те штучки, надо видеть. Ничего, я там живо навела порядок! Мне, понятно, тоже досталось, все-таки я была одна, а их вон сколько... Слушай, а что тут за работа?
– Да мы не працюемо, це ж пересылка, «дулаг» по-ихнему. Отправлять будут усих, а куда – неизвестно. Тут и работать нема где, все геть поразбомбили. Кто каже – до дому отпустят...
– Отпустят, держи карман! А хоть кормят?
– Звычайно, як всюду. Гемюза, хлиба триста грамм, утром дают каву.
– Ну! Кормят, на работу не гоняют, еще и кофе по утрам – райская тут у вас жизнь, как я посмотрю. А ты до дому хочешь! На фронте-то что нового – газеты читаете?
– Кажуть, Севастополь наши освободили.
– Про Севастополь я уже слыхала. А больше ничего? Значит, готовятся. Так что держи хвост пистолетом!
В этом дулаге Таня прожила еще два дня, а на третий попала в очередную партию, предназначенную к отправке. После обеда их – с полсотни девушек – вывели за ворота, они долго шли колонной мимо развалин какого-то большого завода, потом оказались на железнодорожной станции – тоже совершенно разрушенной, от нее остались лишь закопченные стены сгоревших пакгаузов и кладбище искореженных скелетов товарных вагонов, которые так и остались стоять на рельсах. Рельсовых путей здесь было множество – двадцать, а то и больше, кое-где они были разворочены бомбовыми воронками, местами выглядели целыми, но поезда здесь, видно, не ходили уже давно – рельсы были ржавыми, лишь одна колея блестела чистым металлом. Возле этого единственного действующего пути была сооружена дощатая платформа со сборным стандартным бараком в одном конце. Девушкам велели ждать тут, никуда не отлучаясь, – да и куда было отлучиться в этой пустыне исковерканного железа? Хорошо хоть, сопровождающий указал, где отхожее место.
Они ждали до самого вечера, вечером пришел товарный состав с прицепленным в хвосте пассажирским вагоном-»сороконожкой» без единого целого стекла в дверях. Некоторые сиденья внутри были сломаны, но места хватило – вагон подали пустым, наверное, специально для них.
Все гадали – в какую же сторону тронется состав. Тронулся он в ту сторону, где только что село солнце.
– Вот вам и «до дому», – сказала Таня, – теперь вообще за Рейн увезут! Ладно, там хоть не бомбят.
– Ты почем знаешь, бомбят там или не бомбят?
– Что я, за Рейном, что ли, не была?
– Да уж ты всюду была, – ехидно сказала одна из девушек, почему-то невзлюбившая Таню с момента ее появления в лагере. – Тебя послушать, так ты и в Москве была.
– Была, ясно, если я родилась там.
– Подумаешь, москвичка какая нашлась!
– Да уж какая есть, – отозвалась Таня, не глядя на недоброжелательницу. – А ты заткнись, паразитка. Эссенские курвы меня долго будут помнить, вот и ты запомнишь.
– Да ладно вам, чего завелись! Слышь, Тань, а там заводов, что ли, нет, за Рейном? Почему не бомбят?
Есть ли за Рейном заводы, Таня не знала, но уронить свой авторитет не могла.
– Господи, при чем тут заводы? Надо же соображать! Голландия рядом, промахнуться – раз плюнуть. А чего этоангличане своих союзников станут бомбить...
Рейн переехали уже в темноте, видно ничего не было, только долго громыхал бесконечный мост, по которому поезд тащился со скоростью пешехода. Ехали всю ночь – вернее, больше стояли, чем ехали; под утро стало совсем холодно, в выбитые окна тянуло сыростью, Таня проснулась вся окоченевшая. Она встала, прошлась по вагону, зябко кутаясь в свою рабочую куртку, сшитую, как и лагерное платье, из какой-то эрзац-дерюги. Поезд шел по сырой зеленой равнине, над травой низко стелился легкий туман, вид был непривычный – ни одной дымящей трубы; да и пахло здесь совсем иначе, по-деревенски мирно. Странным было отсутствие зениток – вокруг Эссенавсюду, куда ни глянь, торчали из-под земли длинные стволы пушек, обнесенные глиняными валами, и стояли уныло-серые, под цвет рурского неба, бараки артиллеристов. Иногда в трамвае, по пути из Штееле, Таня пробовала считать, сколько батарей расположено вдоль этого пятикилометрового маршрута, но всегда сбивалась со счета. А здесь вообще ни одной! Может, это уже Голландия, подумала она с надеждой; впервые за много месяцев мысль о том, что можно еще – если очень повезет – дожить и до конца войны, пришла ей в голову не как недостижимая мечта, а как вполне реальная возможность.
Вернувшись на свое место, она втиснулась подальше в угол, где не так дуло из окна, и снова задремала, апроснулась, когда поезд уже стоял, ярко светило солнце, и кто-то шел вдоль вагона, стуча кулаком в каждую дверь и покрикивая: «Alle raus, schnell, schnell, los!»[32]. Заспанные, продрогшие, девушки столпились на перроне, недоверчиво оглядываясь, – чистенькая маленькая станция, все стекла целы и до блеска вымыты, на асфальте ни соринки, даже цветы растут в прямоугольной клумбочке за цементным бордюром. «Точно, Голландия», – решила Таня, услышав непонятный говор двух прошедших мимо железнодорожников.