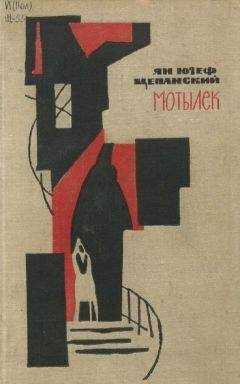— Пять ноль три, — повторил он.
После чего в нем как будто выключился какой-то механизм, он сгорбился, обмяк и, шаркая ногами, исчез за углом дома. Разорванная шумом и движением ночь опять разгладилась, вернула себе свой холодный прозрачный покой.
Михал остался на перроне один. Он шагал по нему и постепенно находил параметры своей действительности. Прерванное несколько часов тому назад путешествие, багаж, холодная тюремная камера, комнатенка в чужой квартире. Он опять видел мать, расхаживающую от стены к стене, словно она искала выход, присаживающуюся на кровать, молитвенно складывающую руки и беззвучно шевелящую белыми губами. Ему казалось, что он смотрит на нее откуда-то издалека, беспомощно ожидая появления в дверях самого себя. Он опять ощутил прилив того самого нетерпения, которое гнало его сюда, в гору, но теперь оно было уже слабее. Михал остановился, огляделся вокруг. Все было по-прежнему. Черное дерево, рельсы, куча гравия, тачки с лопатами. Только тени стали длиннее. И одиночество еще ощутимее. Ему вдруг захотелось убежать отсюда — из этого мира, опустошенного высокомерием, презрением и насилием. Это желание сотрясло его, как приступ лихорадки, у него сжались руки в кулаки, горечь подступила к горлу и прошла, оставляя после себя усталость.
Он вернулся в зал ожидания. Некоторое время постоял возле лавки, глядя на темную фигуру спящего человека. Ему очень хотелось услышать его голос, прикоснуться к его руке. Когда, наконец решившись переменить положение, Михал сел на лавку, он близко придвинулся к спящему и осторожно оперся локтем о его бедро. Незнакомец, видимо, только дремал. Он вздрогнул, медленно повернулся, высунул из-под пальто взъерошенную голову.
— Скорый прошел? — спросил он.
— Да.
— Может, свернете?
Михал с благодарностью взял жестяную коробочку. Они еще несколько раз в течение ночи курили самокрутки из липкого, воняющего карбидом табака. Для беседы им хватало нескольких слов, необходимых для того, чтобы свернуть цигарку и прикурить, иногда вздохнуть или произнести какое-нибудь проклятие. Сгорбившись, опершись друг о друга, они по временам впадали в продолжительное оцепенение.
Михал очнулся со смутным ощущением какой-то перемены. В зале разговаривали. Было светло. Под потолком горела голая лампочка. У открытого окошка кассы стояла кучка деревенских баб с корзинами и жестяными бидонами, держащимися на плече с помощью льняных полотенец. Бабы пахли прогорклым маслом и разговаривали плаксивыми, тягучими голосами. Он посмотрел на своего товарища. Но человек, у которого убили свояка, исчез. На его месте сидела старая толстая тетка в мужских сапогах. Из-под ее клетчатого платка на уровне груди высовывалась голова гуся с круглым жёлтым глазом, полным немого укора. Из открытых дверей веяло холодной темнотой.
— Идёть! — крикнула какая-то женщина.
Среди внезапного гомона он встал, разбитый, опустошенный, без единой мысли в голове, и, зевая и дрожа всем телом, начал связывать свои вещи.
Зимою, когда Михал уходил на работу, была еще ночь. Комнату наполняло затхлое тепло сна. Лампочка, скрытая в некрасивой люстре, подделанной под старину, бросала свет, слишком белый и слишком докучливый, на развороченную постель, остатки завтрака на столе, сжатую в гармошку штору из черной бумаги, закрывающую окно.
Он ощущал непреодолимое желание вернуться в постель. Сон бродил еще в теле тяжелой липкой жидкостью, лишал равновесия, делая движения неуверенными. Он чувствовал, как мучительно сосет под ложечкой после слишком раннего и всегда недостаточно обильного завтрака, состоящего из ячменного кофе с сахарином и кислого хлеба со свекольным мармеладом.
Мать шуршала бумагой, заворачивая приготовленные ломтики хлеба.
— Ты много мне заворачиваешь, — говорил он. — Посмотри, что ты себе оставила: маленькую горбушку.
Он знал, что и этой горбушки она не съест. Выпьет немного бурды и будет ходить голодная до обеда. Ее жертвы давили на него растущей изо дня в день тяжестью, и его охватывала бессильная злоба. В ответ она смущенно улыбалась.
— О, мне достаточно. Старикам много не надо. Такой разговор происходил у них каждое утро, и всегда его нежность превращалась в огорчение.
— Полежи еще, — говорил он. — Тебе совсем не обязательно вскакивать. Я прекрасно сам могу приготовить завтрак.
— Да, да, я прилягу, — уверяла она.
Он знал, что это неправда. Она сядет штопать или пойдет в холодную кухню стирать его рубашки и носки. Уже давно его забота о ней свелась к пустой церемонии. Не потому, что он не был искренним, а потому, что не было никаких действий, подтверждающих эту заботу. Он был похож на человека с пустыми карманами, который отваживается на широкий жест, будучи уверенным, что его подарок не будет принят.
Она куталась в вылинявший фланелевый халат — когда-то голубой с белыми цветочками, а теперь почти гладко-серый — и, присев на край кровати, смотрела с выражением болезненного напряжения на будильник, громко тикающий на ночном столике. Эти последние минуты были самыми трудными. До пяти длился комендантский час — он не мог выйти раньше.
Наконец они прощались. Каждый раз так, как будто он отправлялся в далекий опасный путь. Она обнимала его с испуганно сдерживаемой поспешностью, целовала в лоб.
— Береги себя, — просила она. — Будь осмотрительным.
Он с трудом сдерживал нетерпение.
— Ну конечно. Хотя мне ничего не угрожает.
Он выскакивал в коридор, в спешке боролся с дверной цепочкой и убегал. Он знал, что она стоит на пороге, следя за ним, пока он не исчезнет. Лестничная клетка была темная и воняла плесенью и картофелем. Ночью она всегда наполнялась запахами подвала. Грохот его тяжелых ботинок разносился по всем этажам. Ему казалось, что за ним кто-то гонится. Что он гонится сам за собою.
Холод улицы успокаивал его. Улица была очень широкая, продуваемая влажным дыханием близкой реки. Посредине тянулся ряд деревьев. В их безлистых черных ветвях, предчувствуя близкий рассвет, шевелились галки. Обычно он останавливался сразу же у парадного и закуривал сигарету «Юнак» — твердую, как палка, в толстой бумаге. Горький, дерущий горло дым вначале действовал одуряюще, но после нескольких затяжек приходило ощущение какой-то вульгарной фамильярности по отношению к действительности, и в этом был аромат дня.
В это время город обычно находился еще в летаргии, если накануне не объявляли о том, что будут давать маргарин или мыло. Тогда перед железными жалюзи магазинов торчали закутанные в платки сгорбленные фигуры женщин. Они стояли тихо, словно дремля, полные решимости выстоять на посту до восьми. Завистливые взгляды, которыми их будут провожать через несколько часов легкомысленные люди, толпящиеся в конце длинной очереди, вознаградят их за все — это будет один из тех триумфов, которые делают жизнь возможной.
Если был снег, тротуары повсюду скребли деревянные лопаты дворников. Иногда из-за угла улицы появлялся возвращающийся патруль. Уставшие жандармы с трудом волочили ноги — их бдительность к утру ослабевала. Они все еще сжимали руками стволы висящих на груди автоматов, но во взгляде, которым они скользили по редким прохожим, была одна рассеянность и скука.
Он любил представлять себе внезапное превращение этой тупости в удивление и страх. Если бы неожиданно выскочить с оружием — «Hände hoch!» [36], трое на трое или даже двое против троих. В эту пору могло и удаться. Он проходил очень близко от них, почти касаясь покоробившихся от холода плащей, делая вид, что — задумавшийся и сонный — не замечает их на своем пути.
До трамвайной остановки было недалеко. Еще не завернув за угол, он уже слышал стук — переступание замерзших ног, обутых в туфли на деревянной подошве. Рабочие стояли неясной темной группой между Круглым киоском и пригашенным фонарем, источающим крохи синего света. Они тупо притоптывали, окруженные запахом нищеты: низкосортного табака, пота, кислого дыхания. На выпуклой стене киоска виднелся в тусклом свете последний список заложников.
Иногда, ища знакомые фамилии, Михал испытывал острое чувство вины. Он знал, что близкие питают надежду на спасение этих людей, а он просто ищет знакомых, как на театральной афише. Тогда он себе представлял, что однажды и он будет назван в этом списке. Мать будет бегать по знакомым в отчаянной попытке найти «пути», связи и деньги. Будет давать задатки каким-то подозрительным типам, целуя им руки, как спасителям, будет слушать с покрытым коричневыми пятнами лицом соболезнующие рассказы о счастливых исключениях, которые были с кем-то, где-то, неизвестно когда и где.
Он неизменно приходил к выводу, что об этих вещах думать нельзя. В такие минуты он обычно ощущал таинственную, тлеющую в глубине души зависть, — зависть к тем, которых никто утром не провожает, которых никто вечером не ждет. Он упрекал себя за это, стыдил, но не мог избавиться от тоски по покою одиночества.