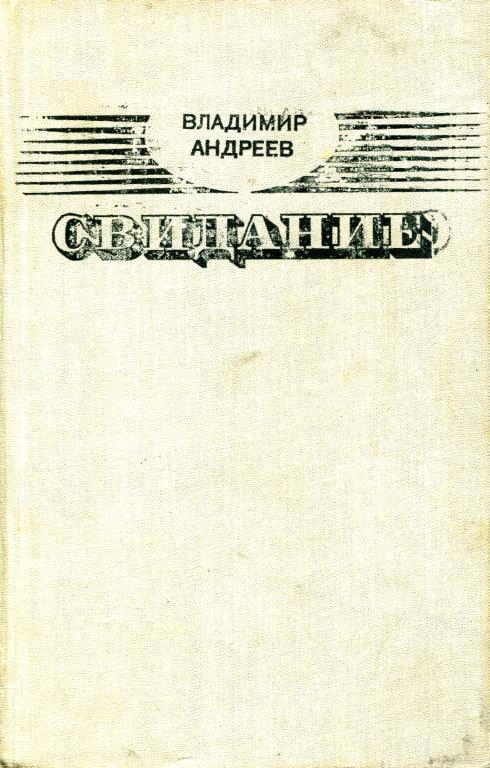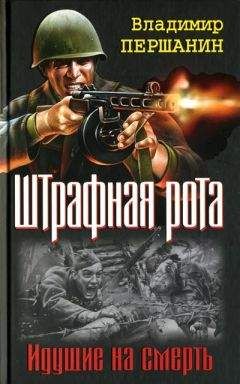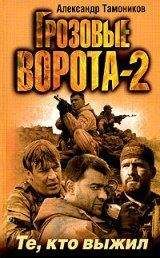дымя цигаркой прямо в микрофон. Пожилой артиллерист, дуя в кружку, спросил:
— А я тебя ни разу не встречал тут. Ты давно с ними? — он кивнул в сторону Пинчука.
— Недавно, — ответил Коля несколько застенчиво.
— То-то я гляжу, лицо будто незнакомое.
— Недавно, — повторил Коля.
— Из каких мест будешь?
— Город Омск. Из Сибири.
— Не земляки, значит, — вздохнул сожалеюще артиллерист. — Я с севера. Сыктывкарский район. Город Сыктывкар.
— Не слышал.
— Дальний город…
Они помолчали.
— Вы тут осторожнее ходите, — сказал артиллерист, обсасывая сухарь. — У нас на прошлой неделе лейтенанта убило. Снайпер. И не заметили даже.
Коля покачал головой и спросил совершенно некстати:
— Как же так?
— Да я же говорю: снайпер.
Пинчук, прильнувший к окулярам стереотрубы, вдруг откинулся и, обернувшись, потрогал старшину за руку.
— Ну-ка, взгляни.
Старшина налег широкой грудью на выступ блиндажа. Разговоры тотчас смолкли. Слышалось сопение пожилого артиллериста, который никак еще не мог расправиться со своим чаем и обсасывал мокрый сухарь.
— Вот сволочи! — сказал старшина оглянувшись. — Петренко, вызывай двадцатого.
Петренко был пожилой артиллерист, который сидел рядом с Колей. Он встал и подошел к телефону, начались выкрики позывных, потом трубку взял старшина и быстро, не отводя глаз от окуляров, стал сообщать координаты, упоминая при этом о «колесах» и «сигарах». Сейчас его голос чуточку сипел, будто горло внезапно перехватило морозом.
Пинчук занял освободившееся место старшины, откинулся на соломе, постеленной на земляных нарах, и, посмотрев на Колю, по-свойски подмигнул ему. Зеленый мальчишка, а хороший. Поливал, видишь, по утрам цветы. Надо же придумать такое. Стреляют кругом, а он о цветах вспомнил. Ну и чудо-юдо.
И вдруг Пинчук начал тоже вспоминать: были у них в доме цветы или нет? Он пытался представить обстановку в комнате — шкаф, комод, кровать, стол, — а вот стояло что-нибудь на подоконниках, какая-нибудь там герань или еще что — никак не мог вспомнить. Вопрос прямо зудел в нем — и то ему казалось, что были цветы, то казалось, что их не было. Матери, что ли, написать, спросить для верности? Но он тут же отказался от этой мысли, посчитав, что глупее вопроса нельзя придумать. И потом, какая разница, были цветы в их доме или нет, ведь он все равно их не замечал тогда. Вот у Коли Егорова — это уж точно: были цветы, и он любил поливать их по утрам. И у Вари были цветы, почему-то вдруг решил Пинчук. «Уйма разных елочек и гераней на всех окнах…»
Неизвестно, сколько бы времени продолжались эти размышления Пинчука, если бы за блиндажом неожиданно не загрохотали взрывы. И герани и елочки на окнах вмиг исчезли. Серьезно и напряженно смотрел в стереотрубу старшина, и сам блиндаж, кажется, начал напряженно звенеть.
Батурин, шагая через ступеньку, спустился в землянку. Рослов разговаривал по телефону. Прижав плечом трубку к уху, он отвечал «да», «нет», щека его при этом подергивалась, будто кто-то прикасался к ней иголкой. На столе перед Рословым лежали карты и схемы, и он ставил то в одном месте, то в другом разные условные значки.
Наконец он положил трубку, поставил на карте красным карандашом стрелки в двух местах и лишь после этого посмотрел на Батурина.
— Пришел.
— Так точно.
— Ну, присаживайся.
Наедине они обходились без формальностей. В свое время оба закончили одно и то же военное училище, хотя в сущности были знакомы мало, а потом и вовсе расстались и воевали в разных местах. И вдруг судьба свела их вместе: Рослова назначили в дивизию начальником разведки. Трудно сказать, какими соображениями руководствовались военные кадровики, соединяя двух однокашников. Всего скорее, что произошло это случайно: одни получил повышение, а другой продолжал свою прежнюю службу. Знатоки утверждали, что хорошего командира взвода в разведку труднее найти, нежели начальника. Батурина, правда, все это не беспокоило — он был не тщеславен, хотя на правах товарища по училищу держался с Рословым свободно, не уступал, спорил, если видел промахи.
— Ну, рассказывай, какие новости?
Батурин уже знал привычку Рослова начинать издалека. Он пожал плечами.
— Чего рассказывать? Ты все знаешь.
— Конечно, знаю и газеты читаю. А все же хочу тебя послушать. Как на передке?
— Наблюдаем, — ответил Батурин, улыбнувшись излюбленному рословскому «на передке». — Все новости я доложил. Других пока нет.
— И не будет! — оборвал Рослов. Голос у него вдруг стал резким и хриплым.
— Почему же?
— Потому что плохо наблюдаем! В третьем батальоне твои ребята ползают? Каждому шальному снаряду, каждой пуле кланяются. Где тут что-нибудь увидеть!
— А ты что? — усмехнулся Батурин. — Грудь вперед… Ухарство твое известно, только говорю тебе как друг: не доведет оно до добра. Попомни мое слово…
— Ну вот и загораем в окопах. И данных поэтому мало. А командир взвода потворствует.
— Не перегибай палку…
Батурин вдруг разозлился, но так же внезапно и успокоился: как он раньше не сообразил — головомойка была Рослову в штабе, вот он и не знает, на ком сорвать злость.
Батурин встал и прошелся по блиндажу.
— Говори, зачем вызывал?
Рослов, красный и возбужденный, жмурил брови и щурился.
— Вот и вызвал, чтобы обо всем этом сообщить тебе. Разве мало?
— О том, что ребята плохо наблюдают? Брось, не крути. У Деда, что ли, был?
Дед в обиходе разведчиков — полковник Зуев.
— Был, конечно.
— Я уж догадался.
— Если бы всегда так догадывался…
— Ладно, ладно, — перебил его Батурин. — Ну что там?
— Надо посылать группу в тыл.
Батурин, подняв голову, внимательно, не мигая, посмотрел на Рослова, но ничего не сказал.
— Вот здесь, — Рослов обвел кружочек на карте. — Здесь они явно что-то замышляют.
— Пощупали бы авиацией.
— Авиацией! — Широкие скулы Рослова снова заходили, словно жернова. — Посоветовал бы ты Зуеву насчет авиации, он бы тебе показал, где раки зимуют. Ишь стратег… Может, Генеральный штаб привлечь для выяснения замыслов противника?
— Брось шутить, — вспылил Батурин. — Не передергивай. Я спросил потому, что мне бывает жалко ребят. Я каждый раз думаю: а нельзя ли обойтись без них, и ничего тут смешного нет.
— Тебе жалко, смотрите-ка, а другим — нет?! Ты переживаешь, а другие нет?! У тебя взвод, а у командира полка, у командира дивизии… Думаешь, им легко?
— Я не говорил, что им легко, — тихо сказал Батурин и посмотрел в сторону. — Я говорил совсем о другом. Не знаю, почему тебе непонятно.
— Понятно, все понятно. У тебя свой круг, у других — свой, и каждый из нас отвечает за свое. Пора бы это засечь раз и навсегда.
— Ну, разошелся…
— С тобой пока не поговоришь о том, о сем — не перейдешь к делу.
— Вот