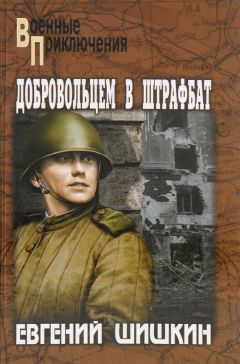Федор призадумался, перестал орудовать ложкой.
Захар тронул его за плечо — осторожно, как будят ребенка:
— Не дразни начальство-то. Иди к замполиту.
Свой котелок, однако, Федор выскреб до последней перловой крупицы.
Замполит Яков Ильич сидел в палатке на чурбане, в новом белом полушубке, с новыми погонами, туго перетянутый новой портупеей, — нарядный, будто сейчас выходить на строевой смотр. При свете «летучей мыши» он вчитывался в текст бумаги и что-то правил красным карандашом, вероятно, оттачивал слог свежего «Боевого листка».
— Разрешите, товарищ майор? — В треугольнике раздвинутых палаточных шлиц показался Федор.
— Отчего же не разрешить? Очень даже разрешаю, — дружелюбно встретил его Яков Ильич. Поднялся, пожал руку, указал сесть на соседний чурбан.
«Ругать, похоже, не будет, — подумал Федор, согретый теплом майорского приема. — Ну а послушать политинформацию — так это мы запросто». Он приготовился внимать замполитово слово, — приготовился с некоторой скрытой иронией, ибо было в Якове Ильиче нечто забавно-веселительное. Есть люди, которые сами придуряться не могут и с ними не попридуряешься, а есть и другие: те и сами ваньку повалять не прочь, и тебе в том не запретят. Замполит, по Федоровым прикидкам, был из других.
Яков Ильич запрягал медленно:
— За форсирование Днепра и за отличие в последних боях ты, Завьялов, награжден орденом Красной Звезды. Это почетная награда Родины. Она должна сильнее пробуждать твою ненависть к врагу… Сейчас наступление Красной Армии развернулось на всех фронтах. Еще несколько героических усилий, и выйдем к границам Советского Союза. Мы должны быть еще более решительными в борьбе с врагом.
Федор по-простецки кивнул головой: так-так… Круглое, почти безбровое лицо замполита с серыми глазками и толстыми губами, которые от значительности речи вытягивались вперед, выражало казенную серьезность. На высокие слова Яков Ильич особенно нажимал и при этом сильнее сдавливал в коротких пальцах красный карандаш. Он и не скрывал своей ораторской манерности, а как бы призывал войти в его должностное положение и подчиниться слушанию официальных слов.
«Как по газете дует», — с потаенной усмешкой подумал Федор. Подумал — и вспомнил сельского комсомольского вожака Кольку Дронова, который тоже был горазд на фразистые речи, начитавшись политброшюрок Бывало, загудит, загудит в избе-читальне про партию, про Ленина, про товарища Сталина, руками машет, один лозунг другим лозунгом перекрывает, и не понять, чего у него от сердца идет, чего у него от должности перепало. Убили, правда, вожака-то. В сорок втором. Где-то на Кавказе.
— …Наше подразделение ждут ответственные задачи, и боевой дух наших воинов должен быть…
«Чего-то замполит больно долго распинается. Может, дело на кого стряпают. Доносительской бумаги не хватает, — опасливо промелькнуло в мозгу Федора. — Стелет и стелет».
— Я к тебе, Завьялов, давно присматриваюсь. Смелый боец. Награжден орденом. Пользуешься авторитетом… Одним словом, давай вступай в партию!
«Ах вот оно что! Вот он куда загнул», — с облегчением уяснил Федор смысл замполитова маневра.
— Дело это серьезное. Но командование на тебя надеется. Парторг батальонный «за». Я в тебя как в будущего коммуниста верю. Рекомендации тебе дадим. — Вся манерность в этот момент с Якова Ильича сползла. Он открыто и поощрительно смотрел в глаза Федору. — Чего помалкиваешь? Вот бумага. Я тебе помогу. Продиктую.
— Так ведь году еще нету, как из тюрьмы я. У меня сроку на три войны хватит, гражданин замполит, — ввернул Федор, надеясь последними словами отбить у майора всякую охоту агитации.
Но Яков Ильич над «гражданином» только искренне рассмеялся, тугими ремнями портупеи от удовольствия щелкнул себя по груди.
— От тюрьмы, Завьялов, да от сумы… А еще в народе говорят: за одного битого двух небитых дают. Мы сейчас большой партийный набор производим. Нам особенно молодежь нужна. Вот тебе лист — пиши!
Замполит оказался настырен. Федор даже опешил и не знал, как выкрутиться. Хотелось и замполита не обидеть, и под диктовку не писать.
— Не имею права я к вам в партию вступать, — наконец, понизив голос, слукавил он. — В Бога я верую, а с верой мне, товарищ майор, в коммунисты нельзя.
— Можно, — тихо, почти шепотом возразил неумолимый Яков Ильич. — Ты своей верой не кичись. И на показ ее не выставляй. Не тот с Богом, товарищ Завьялов, который икону облобызать готов, а тот, кто живет по-божески. Я тебе вот наглядность приведу. В ткацком цеху у меня разные бабы работали. Одни в русскую церковь ходили, другие — в татарскую мечеть. Были и те, которые вроде сектантов, на дому чернокнижничали, шептались… Ответь мне, дорогой товарищ Завьялов, одному они Богу молились или разным?
Федор дернул плечами, к заковыристому вопросу был не готов.
— То-то и оно! — сдавил красный карандаш Яков Ильич. — Люди на земле как были язычниками, так и остались. Бог для них не един.
— Кем были?
— Язычниками. Богов раньше много напридумывали. Их и сейчас хватает… Так что ты, товарищ Завьялов, своего Бога при себе береги. Пусть твоя вера небесной совестью будет. А партийный билет — совесть мирская. По земле шагай с земной совестью. С той, которая у партии есть. А на небесах разворачивай совесть небесную. Сколько их, кто челом в церкви бьет, а за церковью живут нехристями… Ты в таких не верь и примеру их не поддавайся. — Яков Ильич мягко улыбнулся: — Я, может, и сам в душе без Бога шагу не ступлю. Но спины перед попом гнуть не стану. Совесть вышняя совести земной не помеха.
Федор недоверчиво разглядывал замполита: «Бороду бы ему да рясу — и вылитый поп. Только евангелие у него другое…» Замполит, в свою очередь, впрямую глядел на него. По-серьезному. Лишь мягкая складочка у губ выражала что-то заговорщицкое.
Яков Ильич и впрямь не криводушничал. Сын фабричного инженера и текстильщицы, он воспитывался в модности революционного безбожия. Но как-то раз, еще мальчишкой, заплутал в лесу, угодил в рамень и чуть не умер от страха. Обливаясь слезьми и охрипнув от ауканья, он метался из стороны в сторону. Но повсюду — только хвойные дебри. Вот уже ночь близится. Холодища — в одной рубашонке. Голод нутро выворачивает. Он взвыл, обхватил голову руками. Приготовился умирать… Тут и произойди с ним чудодействие. Закрыл глаза, а перед ним не темнота — лук со стрелою. Тетива натянулась — и стрела вырвалась. Он обомлел и, как лунатик, побрел в ту сторону, куда указала стрела. Всю дорогу он молвил: «Спаси, Господи! Спаси меня, Господи!» И вышел из темной чащи. Ни отцу, ни матери он того случая не описал, но в своего Бога пожизненно поверил.
— Икона да крест, Завьялов, не каждому надобны. Для кого-то и здесь креста хватает. — И Яков Ильич постучал себе толстым пальцем по лбу, под обрез шапки, на которой краснела пятиконечная звезда.
В душу Федора пришло смятение: то ли шутом прикидывается замполит и хитро ведет красную пропаганду, то ли истинно нашел он двух богов: одного на земле, а другого на небе — и смудрился приравнять их. Да какой же он шут, если Федор собственными глазами видел, как Яков Ильич, уцепясь за бревно разбитого плота, перебирался через Днепр, а выскочив из ледяной воды, заорал, как оглашенный: «Коммунисты, вперед!» — и, не оглядываясь назад — бежит за ним кто или не бежит, — бросился вперед с пистолетом в руке. Федор видел не раз, как солдаты без нажима писали заявление на прием в коммунисты. Вон и Вася Ломов, дубина, в школе-то, почитай, на одни «колы» учился, писать толком не умеет, по складам читает, ему бы только железо молотом плющить, а туда же — накорябал перед боем: «Если убьют, считайте меня партийцем…» И ведь крещен! Напутную материну иконку рядом с красноармейской книжкой носит…
Что-то во всем этом скрывалось необъяснимое, разноперое, чего и соединить-то, казалось, исключено. А по жизни соединялось! Стоит в родном Раменском сельсовет с красным флагом на длинном шесте, а напротив церковь с крестом над куполом. Друг другу вроде ненавистные, а стоят. Божья власть не всесильна оказалась, если новой верой столько народу перезаразилось. Но и большевики-то, видать, от Бога отреклись, да о нем помнят и, похоже, побаиваются… Динамиту им, что ли, не хватило, чтоб и Раменскую церковь снести? Да нет, нашлось бы динамиту. Духу, видать, недостало. Вот и стоят флаг и крест напротив. Флаг-то все норовит крест обоспорить, да не выходит. Бабы из города тайком от своих партийных мужиков везут в Раменское младенцев крестить. Даже ярый комсомолец Колька Дронов не унял своим «опиумом» родную сестрицу: она свое дитя — Колькиного племяша — руками раменского батюшки в купели окунула. Поначалу Колька от нее нос отворотил, а потом на примирение пошел; племяша-то любил, все на закрошках катал… Вон и замполит Бога поминает, и церкви, прежде заколоченные, в войну открыли, чтоб панихиды вести. Неужель сладили? Чего ж тогда флаг и крест меж собой воевали?