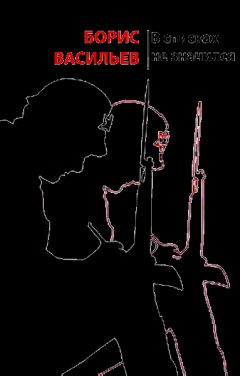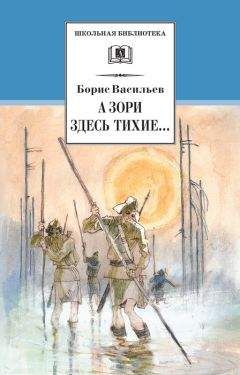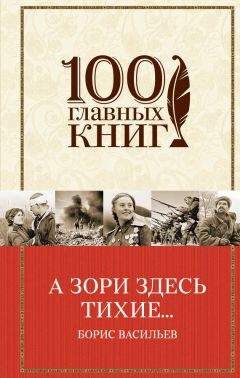Они долго искали его, обшаривая ближние отсеки: голоса то удалялись, то начинали звучать совсем рядом. Он не шевелился, придерживая дыхание, хотя это было сейчас самым трудным: натруженное сердце никак не могло успокоиться. Лежал, весь в поту от слабости и страха, потому что любая шальная очередь по куче означала для него гибель. Даже случайное любопытство могло обнаружить его, но немцам пока не приходило в голову, что он никуда отсюда не ушел.
Не приходило, но пришло, когда все их поиски ни к чему не привели. Он слышал, что они собрались здесь рядом, о чем-то громко переговариваясь между собой. Он услышал шаги над самой головой, всем телом вжался в кучу, и кто-то тяжелый медленно и увесисто прошелся по его спине. Потом он уловил странный, похожий на шипенье звук, не понял, и тут же почувствовал боль: острие штыка прошло вдоль бока, срывая с ребер кожу. Почувствовал и похолодел: немцы сейчас выдернут этот штык, увидят кровь, и все кончится. Но штык взмыл вверх, снова вонзился в кучу в сантиметре от его плеча, снова взмыл и снова вонзился, и тяжесть, что стояла на его спине, вдруг отступила, он услышал грузные шаги и понял, что немец, коловший его штыком, сошел на пол конюшни.
Даже когда затихли шаги и смолкли голоса, он не позволил себе шевелиться. Саднила рана на боку, он почувствовал, что из нее сочится кровь, что постепенно немеют, становятся чужими затекшие руки и ноги, и все-таки не шевелился. Верил, боялся верить и верил снова, что спасен, что еще раз выскочил, но рисковать не хотел и, теряя сознание, терпел эту немоту, что постепенно завладевала телом. Терпел, минутами проваливаясь в небытие, воскресая из него и вновь проваливаясь. Он настолько одеревенел, что не чувствовал, сочится ли еще кровь или уже свернулась, временами думал, что может застыть и уже никогда не вылезет из этой кучи, но не вылезал, пока не стемнело.
Он с трудом выбрался наружу. Долго колотил руками, чтобы вернуть им тепло и гибкость, растирал ноги. Кровь из раны больше не шла, рубашка присохла, и он не стал разглядывать, что там: перевязывать было некому и нечем. Встал, сделал несколько шагов и поспешно сел: ноги не слушались, а в одеревеневших мышцах началась такая боль, что он грыз рукав, чтобы не закричать. А надо было идти, надо было добираться до своего каземата, залезть в него и сидеть, пока не пойдет снег.
Он заставил себя встать, хотя ноги по-прежнему не слушались его, а боль хоть и притихла, но вся не прошла. Шатаясь, добрел до выхода, нашел за кирпичами свой автомат и, не выходя, сменил диск. Он не всегда брал с собой запасные диски, но сегодня взял и снова был с оружием. Он даже вытряхнул из первого диска патроны — всего-то восемь штук — и сунул их в карман, а диск положил за кирпичи, где прятал автомат.
Его счастье, что на штыке не было крови. Либо она еще не успела запачкать лезвие, либо лезвие это само очистилось от крови, пока его вытаскивали. Как бы там ни было, а ему здорово повезло, и поэтому он улыбался, хотя каждый шаг стоил сейчас мучительных усилий.
Но он шел домой, и только это давало ему силы. Шел к себе домой, где была еда и вода, толовые шашки и теплые бушлаты и где до сих пор все так напоминало о Мирре.
Он не переставал думать о ней, даже когда валялся в бреду. В последний раз он видел ее у дороги: она клала кирпичи. Потом он потерял ее, но знал, что она — там, среди женщин, которые приняли ее как свою. Он видел, как их почему-то долго строили, пытался и в строю разглядеть Мирру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак не мог угадать, где она стоит, но думал, что догадалась влезть в середину. А потом колонну увели, двор опустел; он выждал немного и тоже отправился к себе. И всю дорогу печаль и радость боролись в нем, но радость, что Мирре удалось выскользнуть из крепости, все-таки побеждала. Он и сейчас еще радовался этому, потому что больше никаких радостей у него не было: только те, что уже прошли.
Он вдруг остановился, ничего не понимая: он не узнавал местности. Не узнавал своего участка крепости, где, как ему казалось, знал каждый камень. Но этих камней он не знал: перед ним лежали чистые, не запорошенные снегом кирпичи. Лежали в беспорядке, широко разбросанные взрывом.
А дыры, что вела в каземат, не было. Не было ни дыры, ни каземата, ни оружия, ни еды: все было погребено под вывороченными кирпичами. Вся, вся его прошлая жизнь и все надежды на будущую.
Снег предал не только его, но и его убежище: немцы нашли дыру. Нашли и взорвали, а он даже не слышал этого взрыва. И всего-то осталось у него: автомат с полным диском, восемь патронов в кармане, бушлат на плечах да два сухаря в этом бушлате. И больше ничего, и колени его вдруг ослабели, и он грузно осел на кирпичи. И долго сидел так, не шевелясь, думая, что же еще у него осталось.
А еще у него осталось яростное желание выжить, мертвая крепость и ненависть. И поэтому он встал и пошел назад, в подвалы кольцевых казарм.
Ночь он передремал на холодном полу глухого отсека. Мерз, ходил, снова садился и снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, одежду. Он надеялся что-нибудь найти и, едва рассвело, поднялся и пошел по незнакомым ему подвалам.
Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания: манерку с остатками ружейного масла, старый ватник с обгоревшим рукавом, патроны. Он подбирал все патроны, какие попадались: наши и немецкие. Тщательно протирал, прятал в разные карманы — калибр к калибру и считал. Теперь патроны шли на счет, и он заранее поставил автомат на одиночную стрельбу.
Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари, — впрочем, сухари обрадовали бы его сейчас не меньше. Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он разобрал ее, смазал, собрал снова, пощелкал затвором. Боек бил, как у новой, только он не был убежден, сработает ли полуавтоматика: самозарядка долго валялась под кирпичами, а нрав у нее был капризным — он знал это по училищу. Но это можно было проверить только в бою: он заново набил магазин и дослал патрон. И ради такого праздника съел последний сухарь: первый он изгрыз еще ночью.
Он возился с винтовкой в незнакомом подвале: в узкий пролом проникал свет хмурого зимнего дня. А когда дожевал последнюю крошку сухаря, услыхал голоса. Далекие, чужие и непонятные. Подошел к пролому, выглянул: невдалеке стояли трое. Один особо выделялся и ростом и сложением.
Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате. Нет, он понимал, что не знает его и не может знать: просто он вдруг ощутил давящую тяжесть на плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И винтовка у рослого была непомерно длинной, с примкнутым четырехгранным штыком.
При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану на боку: тупо заныло надломленное ребро. Так вот почему на штыке не оказалось крови: он нанес ему колотую рану, а та капелька, что повисла на его острие, впиталась в бушлат. И все вчерашнее счастье заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецким, кинжальным, а своим, родным, четырехгранным, и свой штык не удержал его крови, не выдал, не донес о нем немцам. Штык ни в чем не был виноват перед ним: виноваты были руки, что повернули этот штык против него.
Он поднял самозарядку: хорошо, что он нашел ее именно сегодня, вот она и пригодилась. Если не подведет: все-таки она очень капризна, эта СВТ. Он прищурил глаз, ловя на мушку рослого, что стоял к нему спиной. Прищурил, и фигура вдруг расплылась в пятно, теряя очертания. Он протер глаза, прицелился снова, и снова рослый утратил резкость. С ним никогда не случалось такого, зрение его всегда было отличным, и все же он сразу все понял: он терял зрение, и больше всего терял как раз в правом глазу.
Он не позволил себе расстраиваться. Он просто открыл второй глаз и стал целиться, корректируя мушку обоими глазами. Это было непривычно, но все же он подвел ствол туда, куда хотел, и плавно надавил спуск. И одновременно с грохотом выстрела увидел, как рослого швырнуло вперед, как, вскинув руки, он падает на кирпичи. Он еще раз нажал на спусковой крючок, но автоматика отказала, и второго выстрела не последовало. А перезаряжать было некогда: надо было уходить. Он плохо знал эти подвалы.
Он шел быстро, но часто останавливался, приглядываясь к отсекам и переходам. Где-то сзади слышались голоса, ударило несколько очередей. Немцы преследовали его, но в подвалах он надеялся уйти, если сам не заскочит в тупик, в глухой, не имеющий другого выхода отсек. Тогда придется принимать бой, и бой этот будет его последним боем. Один раз он уже вскочил в такой каземат, но вовремя успел сообразить и убрался оттуда и теперь предпочитал не спешить. Тем более что немцы продвигались по подвалам медленно, стараясь либо высветить, либо обстрелять все темные ниши и норы.