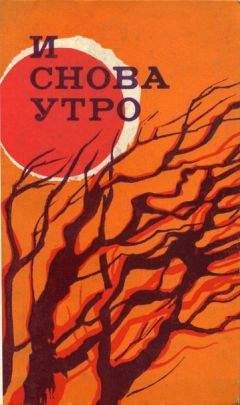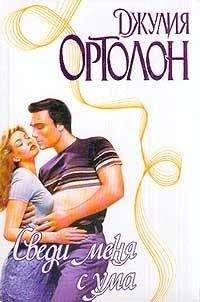И вдруг стоны прекратились. Тогда меня охватил страх и отчаяние, что она умерла. Я снова приложил ухо к ее груди, чтобы убедиться, что она еще жива.
Она была жива. И даже не стонала, а только смотрела на меня. Опершись на локоть и немного нагнувшись к ней, я тоже смотрел ей в лицо. Небо просветлело, и звезды будто поднялись выше. Лицо ее было загадочным и торжественным, и сердце мое трепетало от волнения. Раненая глядела на меня такими грустными глазами, каких мне никогда в жизни не доводилось видеть.
«Она страдает от сознания, что умрет», — подумал я, и все во мне закричало от безнадежной, дикой жалости. Где-то рядом по-прежнему жалостливо и безнадежно кричала болотная птица. Через некоторое время я понял, что страдание застыло не только в глазах женщины, но и во всем ее облике. Ей было самое большее лет двадцать пять. Не знаю, была ли она красива. Сейчас главным в ее облике была не красота или уродство, а страдание. Страдание исходило из каждой черты ее лица, от бледного лба, от едва заметно напрягшихся бровей, от осунувшихся щек с выступившими скулами, от коротко подстриженных красновато-медных волос.
— Тебе, наверное, очень больно! — сказал я, хотя и сам видел, что это так. Эти слова вырвались у меня невольно. К тому же они были сказаны на чужом для нее языке.
Она закрыла глаза, и две слезинки, словно бусинки, покатились к вискам. Потом, когда она снова открыла глаза, они были мутны от слез, а может быть, от охватившего ее отчаяния.
— Кто ты? — спросила она по-немецки.
— Румын. Военнопленный. Я бежал, хочу добраться назад, к своим.
— Тебя убьют, если схватят.
— Знаю.
— А я тебе только мешаю!.. Теперь ты был бы далеко, если бы оставил меня там…
— У меня больше не было сил идти. Уже восемь дней, как я не видел крошки хлеба. Хотел пробраться в село, поискать что-нибудь из еды.
— Это не село, а городок. Если бы ты туда пошел, немцы схватили бы тебя наверняка. По улицам ходят патрули. Устраивают облавы. По-видимому, ищут кого-то. Может быть, тебя?
— Меня ни в коем случае.
— Как бы то ни было, я тебе мешаю… Но думаю, что скоро это кончится. Самое позднее — утром. Пока этого не случится, прошу тебя: не уходи от меня. Мне очень страшно умирать одной.
Она закрыла глаза, и снова две слезинки покатились к вискам. Потом она нащупала мою руку, легонько сжала ее и оставила в своей горевшей огнем ладони. Болотная птица прокричала еще раз, будто со страху. Небо стало еще выше, а мое сердце сильно сжалось, придавленное бесконечностью мирового пространства. Рядом со мной умирала женщина, а в бесконечности, простирающейся от меня до призрачного, усыпанного звездами небосвода, время текло спокойно и равнодушно. Умирала она, как, наверное, умирали сотни людей на всех фронтах в ту ночь, которая не кончится и после восхода солнца, ночь, которая длится уже пятый год и которая рассеется лишь после того, как умолкнут орудия, все орудия на всех фронтах. До этого мгновения оставалось не так уж много. Может быть, всего лишь несколько месяцев. Жаль, что она не доживет до этого дня! А я? Я-то застану этот день? Боже, как мне хотелось дожить до него! Мое воображение разыгралось: я увидел себя вернувшимся домой. Домой! Моим «домом» была комната, в которой меня никто не ждал. Разве лишь скука, притаившаяся по углам, разве лишь одиночество, причиной которого было то, что я требовал от жизни больше, чем она может дать. Я представлял, как открываю дверь, как она жалобно скрипит, удивленная, что ее открывают через столько лет. Я поднимаю штору, и солнечный свет дивится тому, сколько пыли скопилось на письменном столе, на пианино, на книгах — повсюду.
«Вернулся, сыночек?» — спрашивает меня соседка-старушка.
«Вернулся, Святая Пятница!» Так я всегда называл ее.
«Кончилась война, сыночек?»
«Кончилась, Святая Пятница!»
«И ты живой остался?»
«Как видишь, живой, Святая Пятница».
«Хорошо, что живой, сыночек. В твои годы грех помирать. Фу, а пыли-то! Вот не оставил мне ключ. Сейчас бы твой дом блестел, как луна…»
«Комната, Святая Пятница!»
«Дом! Потому что для тебя сейчас это твой дом. Пока не женишься. Раз уж избавился от смерти, то обязательно женишься. Давай я немного приберу. Не видишь, пыль столбом?»
«Хорошо, Святая Пятница. А я иду в ванную. Возьми все это имущество и сожги. А то, может, где-то еще притаились вши».
Я вхожу в ванную и пускаю воду, так, чтобы погорячей, как можно погорячей. Забираюсь в ванну, охая от удовольствия. Выбираю положение поудобнее, чтобы вода доходила до самой шеи. Вода пахнет сосновой смолой. Я намыливаюсь и изо всех сил тру себя мочалкой, чтобы избавиться от запаха траншей, пороха и смерти (многие из тех, кто побывал на фронте, знают, что после нескольких лет пребывания на передовой, после многих атак и обстрелов, когда люди умирают вокруг тебя справа и слева, спереди и сзади, запах смерти пронизывает все поры). Я сижу в ванне час, два, даже больше, погруженный по шею в горячую, пенистую воду. В моей комнате наводит порядок Святая Пятница, она вытирает пыль и что-то напевает своим слабым, дрожащим голосом.
Наконец я выхожу из ванной. Вытираюсь полотенцем. Святая Пятница больше уже не поет. Она закончила свое дело и ушла. Меня ожидает чистое белье. Оно пахнет белизной. Пахнет мылом, щелоком. Я подношу белье к носу и вдыхаю его запах, как запах цветка. В конце концов, и на фронте случается наткнуться на цветок и поднести его к носу. Но на фронте никогда не увидишь чистое белье, выстиранное, прокипяченное и подсиненное руками Святой Пятницы. Я надеваю чистую пижаму и жмурюсь от удовольствия. С чем можно сравнить это блаженство, когда, возвратившись живым и невредимым с фронта, надеваешь чистую пижаму? Я забираюсь в постель, пахнущую лавандой. Я катаюсь по постели и глубоко вдыхаю запах лаванды. Глажу чистые простыни ладонями, прикасаюсь к ним щеками. Они прохладные и мягкие. Мне хочется забыть о холодной, очень холодной и враждебной земле траншей, которая пронизывает тебя своим холодом, сыростью, безжизненностью. Земля будто завидует тому, что у тебя в жилах течет горячая кровь. И если ты спишь на земле, она хочет похитить твое тепло, чтобы согреться самой. Поэтому, если ты не почувствуешь ее холода и не проснешься вовремя, она может украсть у тебя все тепло и твой сон перейдет в вечный. Но с этим покончено! Я жив! Отныне я никогда не буду спать на голой земле, завернувшись лишь в плащ-палатку. Отныне я не буду дрожать от холода и страха, просыпаясь утром. Отныне я буду спать только в кровати на чистых простынях, пахнущих лавандой. И, чтобы полностью прочувствовать как нынешнее, так и будущее удовольствие, я катаюсь по чистым простыням, глажу их ладонями и чувствую себя на верху блаженства. Потом я успокаиваюсь. Меня охватывает приятная расслабленность. Появляется желание что-нибудь почитать. Книги, с которых Святая Пятница вытерла всю пыль, рядом. Мне дороги все книги, имеющиеся в моей библиотеке. Это мой порок, неисправимый порок, от которого я не собираюсь избавляться. Я содрогаюсь при мысли, что у меня могло и не быть такого порока. Что за жизнь была бы без книг? Я протягиваю руку и беру первую попавшуюся книгу. Мне все равпо какую: я храню лишь те книги, которым останусь верен до конца своей жизни. Я могу рассказать на память целые страницы из книг, которые нравились мне в юности. Благодарю случай за то, что дал мне хорошую память. На фронте память помогла мне уберечься от деградации. Представьте себе индивидуальный окоп на передовой. Представьте себе, что дождь льет как из ведра и проникает через плащ-палатку. Представьте, что лежите в болотной луже в ожидании рассвета, когда начнется атака. Можно заснуть. Сон — это забвение. Но что делать, если не можешь уснуть, если видишь, как постепенно утрачиваешь то, что человек приобрел в процессе цивилизации рода своего? Что должен сделать ты, чтобы спасти себя, чтобы не проделать путь назад, к первичному мраку? Так вот, я находил спасение в своей памяти, пересказывая наизусть целые отрывки из прочитанных ранее книг…
* * *
— Как тебя зовут? — спросила раненая и посмотрела на меня.
Игра воображения прекратилась. Я вновь увидел себя возле раненой женщины, в болоте, грязный, изнуренный голодом.
— Хория меня зовут. А тебя?
— Милада.
— Милада? Что это за имя?
— Чешское.
— Значит, ты чешка!
Я хотел спросить ее, как она оказалась в Венгрии, но сдержался. Женщина умирала, и мое любопытство, если это простое любопытство, было бы просто бесчеловечным.
— Румын, да?
— Румын. Я уже говорил тебе.
— Да, ты говорил…
Больше она меня ни о чем не спросила и снова закрыла глаза. Теперь в болоте установилась тишина. Умолкла болотная птица, замолчали лягушки. Только справа, с шоссе, по-прежнему доносился гул моторов.
Я вслушивался в этот непрерывный гул и вдруг вспомнил о моем тезке Хории Быргэзане. Точнее, о его трагической гибели.