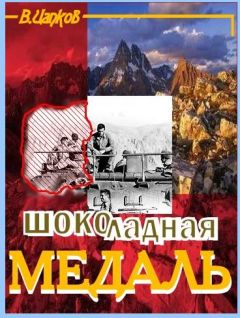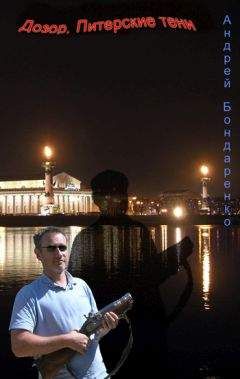Его собеседник ухмыляется, разводит руками, мол, ничего не поделаешь. Потом он вдруг спохватывается:
— Вот только… — и замолкает.
— Говори, говори, — хмурится толстяк.
— Девушка, конечно, хорошая…Вот только я боюсь, она недостаточно несчастна, чтобы во-первых — вызвать жалость, а во-вторых — согласиться на поездку.
— Куда она денется, согласится, — машет рукой толстяк, но потом добавляет, — А ведь что-то в этом есть. Здорово ты это сказал: недостаточно несчастна… Хотя, что у нее осталось — выживший из ума дед, который вот-вот помрет.
— Вот именно, как такого бросишь, — вздыхает собеседник толстяка и улыбается.
Беседа снова гаснет. Расслабившись в удобных креслах, они молчат в полумраке, то ли о чем-то размышляя, то ли в ожидании чего-то…
— Нет, мужики, не уговаривайте, сначала в отгуляю отпуск, а потом располагайте мною на все сто, — упорствовал разомлевший после горячего душа Олегов. Чистая простыня с жирным штампом «Министерство обороны» , в которую он был завернут, дарила ощущение блаженства.
Покой и чистота — это сейчас, а до этого — вынимающий слезы холод на перевале, да вонь и пыль в долине. И самый трудный участок пути: от Хар-Ханы, «ослиного дома» , через пустыри до аэродрома, рискуя нарваться на пулю своего часового.
Солнце еще не взошло, когда Олегов уже осторожно стучался в одну из дверей офицерского модуля. Орлов сразу повел его в душ, а вонючую грязную форму затолкал в стиральную машину, обильно посыпав порошком СФ-27, применяющимся в армии для дегазации-дезактивации, самым сильным стиральным порошком в мире.
— Но ты же сам говоришь, что там сильно интересуются товаром, — стоял на своем Орлов, пытаясь уговорить Олегова еще на одну поездку.
— Мало ли что может случиться, — усмехнулся Олегов. — Обидно было бы влететь, не отгуляв отпуск. И не уговаривайте, ни за какие деньги…
— Ну хорошо. Но ведь ты мог бы кое-что перебросить, уезжая в отпуск?
— Ну ты и упорный! Я же сказал тебе, хочу спокойно уехать, спокойно отгулять, расслабиться… А потом — снова за работу.
К девяти Орлов ушел на развод, пообещав потом устроить беседу Олегову с «более авторитетными для него людьми» . Встречаться ни с кем не хотелось, поездка в вонючем грязном ящике лишь укрепила в нем желание прервать вынужденную цепь поступков, уводящую в какой-то совершенно иной мир. У него было ощущение, что в одном физическом пространстве сосуществуют два механизма, колеса которых крутятся в разные стороны, не мешая друг другу, но захватывая его зубьями, увлекая одновременно в чуждые друг другу орбиты.
В конце концов, пора определиться, думал Олегов, решительно шагая в еще влажной форме в сторону КПП, где он рассчитывал найти попутную машину до своего полка. В руке он сжимал командировочное предписание, подготовленное Орловым и оправдывавшее его отсутствие в полку, он не положил его в карман, чтобы не намокло.
… Неделя прошла в предотпускных хлопотах, из которых самым трудным оказалось найти коричневые парадно-выходные ботинки. В полевой форме через границу почему-то не пускали, а удовлетворявшей его гражданской одежды Олегов не купил. Не купил потому, что в военторге ничего подходящего не было, а в город он твердо решил не ездить.
Рапорт был уже подписан и паспорт заказан. Но чем ближе был день отъезда, тем сильнее крепло у Олегова чувство, что что-то должно случиться. Все было как обычно: недолгий развод, нудные занятия, опостылевшая еда в столовой, вечером — чай и нарды. Компания, правда, уменьшилась. Пока Олегов был в отъезде, лейтенант Люшин в очередном подпитии ночью вздумал сходить на «виллу» , откуда с помощью знакомых связистов узла связи «Булава» порой названивал в Москву отцу и подругам. На одном из перекрестков он был задержан афганским патрулем, как те доложили — «на полпути к американскому посольству» . В двадцать четыре часа с пометкой в личном деле «без права на льготы» его отправили в Союз…
… Итак, все было, как обычно. Необычным было лишь ощущение, что он — рыбка в аквариуме, и за ним наблюдает глаз, такой огромный, что он даже не воспринимается как глаз, но частицами которого, возможно, и являются люди в серой и зеленой форме, замшелые стены дворца, увядающий дворцовый сад.
Ощущение это было настолько тягостным, что Олегов облегченно вздохнул, когда безотчетная тревога чуть-чуть прояснилась.
Он брел в казарму после обеда один, когда с ним поравнялся солдат из бригады национальной гвардии, у которого вместо форменной фуражки на голове была черная шапочка, какие порой носили индусы. Олегов и раньше мельком видал этого парня, ничего особенного из себя не представлявшего.
— Гаури плачет. Просила тебя приехать. Отец у нее умирает, — сказал тот через плечо и быстро пошел вперед. Олегов рассеянно кивнул ему, не ускоряя шага и ничего не переспрашивая.
Разумеется, я здесь ни при чем, и меня это не касается, сказал он сам себе, входя под гулкие своды дворцовых ворот. Каждый шаг под каменной аркой отдавался тоскливым эхом, в тени было прохладно. У самого выхода ежился от холода солдат, сидевший посреди дороги на табуретке. У его ног стоял гранатомет с гранатой в стволе — особый отдел выдал информацию, что кто-то готовится, как в Бейруте, набив грузовик взрывчаткой, протаранить ворота и ворваться во дворец.
Олегов подошел к казарме, вошел и спросил у дневального на входе:
— Где командир роты?
— За казармой.
Олегов вышел и пошел за угол. Он знал, где искать Моисеева. Тот не любил казенной кулинарии, не любил и таскаться в офицерскую столовую, считая, что качество пищи не оправдывает долгой ходьбы. Он задумчиво глядел, сидя в раскладном деревянном кресле, как ротный писарь Костров помешивает на большом противне картошку. Костер был разведен прямо под крепостной стеной. Казарма заслоняла огонь от апартаментов и канцелярии президента, а дрова, сухие доски от ящиков из-под боеприпасов, горели почти без дыма.
— Что в столовой давали? — спросил Моисеев, сглотнув слюну. Картошка была еще не готова, а есть уже хотелось.
— Параша, — с досадой махнул рукой Олегов.
— Вот видишь, — расплылся в довольной улыбке Моисеев, — говорил я тебе, оставайся.
— Гена, мне бы в город, шмоток прикупить, — спросил неожиданно Олегов, в глубине души не зная, чего ему больше хочется, чтобы ротный не разрешил, или чтобы отпустил.
— Езжай, перед отпуском это дело святое, — великодушно сказал Моисеев и добавил, — редиски купи, помидорчиков, если не дорогие…
— Уж это обязательно…
Осень в Кабуле пахла фруктами, яркими оранжевыми пятнами сияли лотки с мандаринами, в открытое окно такси врывался сладкий аромат дынь. Вышел Олегов возле дукана деда Азиса, наряду с прочим торговавшего самогоном из кишмиша. У офицеров батальона этот напиток пользовался доверием, хозяин дукана состоял в НДПА и являлся членом какого-то совета лавочников Кабула. Кишмишовку в его честь так и называли — «азисовка» .
— А где отец? — спросил Олегов у худощавого парнишки, радушно встретившего его на пороге.
— Болеет, в Пакистан поехал лечиться, — опечалился сын Азиса.
— Я позвоню? — сказал Олегов и, не дожидаясь ответа, шагнул за прилавок.
Через десять минут к дукану подъехала старенькая «Тойота» , посланная Маскудом. А еще через десять минут Олегов, закутавшись в одеяло на заднем сиденье, чтобы не привлекать внимания пешеходов и чрезмерно любопытствующих, подъехал к дому Маскуда.
Дома в старом квартале, наверное, выглядели одинаково. Во всяком случае, одинаковыми были ворота — большие, тяжелые, в высокой глухой стене. За воротами — небольшой фруктовый садик, двухэтажный дом, вдоль стены — хозяйственные постройки.
— Рад тебя видеть! — на крыльце стоял, приветливо улыбаясь, сам Маскуд, заслоняя своим телом почти весь дверной проем.
— Где Гаури? Что с ней случилось? Ты за мной послал?
Прежде, чем увидеть Гаури, Олегов хотел все же выяснить, кто послал гонца: она или Маскуд.
— Старик совсем плох, — сокрушенно ответил Маскуд, — вот-вот умрет, пойдем, я провожу тебя.
Он скрылся в сумерках коридора, Олегов с чувством какой-то обреченности пошел за ним. Они вышли на задний двор, где размещалась пристройка для прислуги, и подошли к небольшой каморке с широкими окнами, где, судя по обилию цветочных горшков, садовник зимой выращивал рассаду.
Не дойдя нескольких шагов до каморки, Маскуд остановился, шагнул в сторону и, печально склонив голову, жестом показал Олегову, чтобы тот проходил вперед.
Олегов пригнулся под низким косяком и вошел внутрь. Стены каморки были грубо и ярко расписаны цветами, а пол выложен мозаикой, от этого неподвижное тело старика на низеньком топчане и тихонько всхлипывающая Гаури в черном платье казались не настоящими. Олегов обернулся, Маскуда не было видно, он, вероятно, остался за порогом.