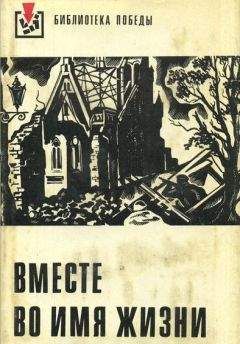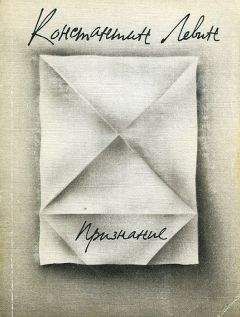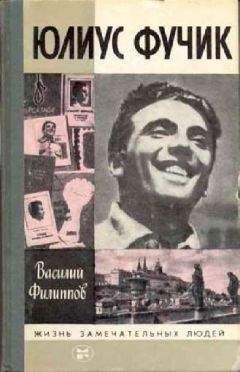— Как же ты останешься тут один, братишка? Я должен идти, я должен идти, — твердил он тихим, страдающим голосом. Погладил Штефана по колючей, небритой щеке и резко поднялся.
Не оглядываясь и не колеблясь больше, он пошел в направлении, противоположном тому, куда ушли немцы. Все в нем окаменело, только в сердце была невыносимая боль. Он шел как неживой, и все его мысли были о том, что около усадьбы лесника лежит и холодеет Штефан. Он замечал только самое главное. В ушах его все еще звучал тот сдвоенный сухой щелчок выстрелов, перед глазами стояли темные фигуры и лицо, освещенное спичкой. Временами Юрай прикрывал веки, чтобы избавиться от этих видений.
Пройдя наискосок через лес, он спустился в долину, потом, спотыкаясь о камни, начал взбираться по крутому склону, густо поросшему буковым лесом. Там солнце уже почти слизнуло снег. Остановился Юрай лишь дома во дворе, куда пробрался, миновав луга и сады, часа за два до полуночи. Часто дыша, он прижался лбом к стене рядом с хлевом. Душу его теснили непролившиеся слезы, они давили, как вода в замерзшей земле. Стоя с закрытыми глазами, Юрай видел лицо Штефана — необыкновенно чистое, ясное, застывшее в удивлении, а вокруг него — темные зловещие фигуры в черноте ночи.
Мать рыдала, рвала на себе волосы, билась головой о стол. А он сжимал кулаки и не мог найти в кухне места, предмета, на который сумел бы смотреть долго.
Косился на людей, когда они смотрели на него как на счастливца, который чудом спасся от смерти. Свое существование он воспринимал лишь как обрывки бессвязной, бессмысленной жизни и все время со страшной отчетливостью ощущал рядом с собой брата, как он стоял там, у того забора, в нескольких шагах, такой покинутый и потерянный.
Заплакал Юрай только на похоронах, когда увидел вокруг всех мужиков, с которыми они скрывались в ельнике. Мужики пришли через два дня вместе с теми русскими. Никто ни в чем не упрекнул Юрая, вопросов задавали мало, но у него было такое чувство, что на него смотрят с укоризной: он-де, старший, образованный, более опытный, повел младшего на гибель.
Все знали, что Юрай и Штефан ушли, что их схватили. Ярко-красная полоса шрама свидетельствовала о пуле, которой назначено было прервать его жизнь, но это все оставалось только в нем, не уходило. Смерть Штефана вошла в него, и он носил ее в себе, совсем не чувствуя никакой радости оттого, что живет и что война быстро уходит на запад.
С образом покойного брата перед глазами стоит Юрай в нескольких шагах от дороги, в ушах его снова щелкают два выстрела, слившиеся в один, он снова падает и снова поднимается. И в этот миг видит, как по деревне ведут пленных немцев. Его ненависть бессильна и безадресна, он расстреливает их сначала глазами, потом из автоматов советских конвоиров, всех до единого, всех — за Штефана.
И в этот момент один из пленных, четвертый в крайнем ряду, бросил взгляд во двор, и Юрай окаменел, ошеломленный мгновенным озарением — ведь это тот, один из тех четверых, тот, лицо которого было выхвачено из темноты светом спички.
Это он! Тот же нос, те же щеки и подбородок! И мертвый брат тотчас же поднимается, глядит сбоку на Юрая и кричит из тьмы, окутавшей угол забора усадьбы лесника: «Помоги мне, братишка, отомсти за меня!»
В четыре прыжка Юрай оказывается на дороге, не замечая удивления на лицах идущих, еще прыжок — и немец уже в его руках. Юрай хватает его за воротник. Колонна начинает замедлять шаг. Пленные смотрят на него, звучат какие-то слова. Оборачивается и молодой, стройный солдат с автоматом на груди. Носатый немец, пытаясь вырваться, упирается, как бестолковый вол в ярме, но Юрай держит его и не отпускает.
— Он моего брата… убил! — говорит Юрай, кричит тому парню с автоматом прямо в лицо, зло дернув к себе костлявого, лет сорока немца в серой форме без пояса. — Там, у леса, четыре германца были, меня тоже хотели убить!
В последнюю минуту он понял, что без толку кричать на немца, русским надо сказать об этом, русским! Ведь в последнем классе гимназии он учил русский и кое-что может сказать!
— Ты его узнал? — показывает молодой солдат на немца, который все же вырвался и теперь пытался держаться оскорбленно и холодно, словно это его совсем не касается.
— Узнал! — ударил Юрай себя кулаком в грудь и, бросив топор, обеими руками хватается за автомат конвоира. — Товарищ, дай мне автомат, я его сейчас сам… за моего брата, смерть за смерть!
— Подожди… подожди! — строго говорит солдат, отодвигаясь с автоматом.
В это время из головы колонны к ним подходит начальник конвоя и о чем-то говорит с солдатом. Потом переводит взгляд на Юрая, качает головой и задумчиво говорит:
— Да…
— Товарищ командир! — наклоняется к нему Юрай с просительным видом, лицо его кривится от боли. — Дайте мне автомат! Он убил моего брата! Нас поймали у леса четыре германца, в меня тоже стреляли, смотри! — Он прикладывает указательный палец к свежему шраму на скуле.
— Понимаю, хорошо понимаю… — говорит невозмутимый старшина лет тридцати и зажигает сигарету. И все он делает так медленно, с такой основательностью, что у Юрая опускаются руки, у него возникает ощущение, что он стал посмешищем для этих пленных: надо же, примчался, как волк, дурак несчастный, а теперь стал кротким, как ягненок…
— Я его сам застрелю! За брата! — взорвались в нем ненависть, растущая беспомощность и унижение, но старшина, вместо того чтобы дать автомат, положил ему руку на плечо и проговорил:
— У меня двух братьев убили, понимаешь? У него — мать и сестру! — кивнул он в сторону молодого автоматчика. — А мы в них не стреляем! Нельзя, невозможно! Они военнопленные, понимаешь?
Мертвый Штефан вытягивается в болезненной судороге и говорит без слов, говорит своим ясным, испуганным лицом:
— Братишка, Дюрко, я мертв, а он живет, через нашу деревню идут, мимо нашего дома!
И Юрай быстро отвечает:
— Мой брат не был солдатом, он не стрелял в них, а они его убили!
— Они фашисты! А мы — Советская Армия, советские люди. У нас другой закон!
— Другой закон… — повторяет за ним Юрай, стараясь не смотреть направо, чтобы не видеть немцев, не видеть даже клочка их формы.
— Вот так, — говорит старшина, и лицо его делается усталым-усталым. Он отбрасывает недокуренную сигарету: — Мы победим фашистов навсегда! Ну, прощай! — Он подает Юраю руку, поворачивается и идет в голову колонны, которая понемногу трогается с места.
Юрай отступает на шаг влево и стоит стиснув зубы. Он не смотрит на пленных и их конвой, только чувствует, как они уходят по дороге, которая ведет мимо кладбища, где похоронили Штефана. Потом наклоняется за топором и медленно идет во двор, не замечая никого и ничего.
«Другой закон, — слышит он голос русского, — другой закон…»
Эти строгие слова не приносят облегчения. И все же он чувствует, что теперь как бы начал видеть: пространство вокруг него, то, невидимое, замкнутое, расширяется. В нем продолжается война, большая война, она проходит мимо него тысячами взрывов, сотнями ног. Ее огненный вал прошел здесь и катится дальше. Их настигают и убивают, будто свору бешеных собак, солдаты, у которых есть братья, и солдаты, которые навсегда потеряли братьев. Живые братья сражаются за мертвых, они убивают, но их руки остаются чистыми, не оскверненными кровью, пролитой из личной мести, потому что самая большая месть, которая надолго сохранится в памяти людей, — это совместная окончательная победа над убийцами и их сообщниками.
Юрая по-прежнему гнетут тяжесть, тоска, но эти мысли оставили в нем какой-то след, пусть он слабый и не совсем ясный. Это помогает ему жить и видеть.
Он оглядывается на дорогу. Она такая же, как всегда, — утоптанная и пустая. Окружающий мир купается в ясном свете, таком ясном, что, собственно, даже невозможно вот так просто взять в руки оружие и выстрелить в упор, прервать жизнь безоружного, который провинился перед людьми, невозможно, даже если он трижды заслужил это.
«Нет, это невозможно, я не смог бы этого сделать», — осознает Юрай, опять стоя у колодца, и руки его словно радуются, что им не дали автомат. Он хватается за гладко отполированный шест, чтобы достать из колодца свежей воды, смочить пересохшее горло.
Видно, в то сырое утро какая-то опасность уже нависла над нами, раз целую ночь перед этим я никак не мог успокоиться. Когда жена меня разбудила, голова моя была еще легкой, словно перышко, но стоило мне окончательно проснуться, как беспокойство вновь овладело мной. Я даже не скажу, что оно гнездилось где-то внутри меня, нет, оно скорее кружилось в воздухе, как кружится назойливая муха над протухшим мясом. Как оплетают лицо и уши тонкие нити паутины, так оплетало меня беспокойство — неотступное, неприятное. И так же, как невозможно смахнуть с лица эту паутину, освободиться от нее и почувствовать облегчение, так невозможно было отделаться от этого чувства — тонкими мелкими иглами оно кололо меня со всех сторон. Я ворчал, как медведь на январскую метель, и был крайне встревожен. Тминную похлебку, которую жена сварила еще вечером, а сегодня только подогрела, я съел без всякого аппетита, даже хлеба не накрошил в тарелку. И умываться не стал, и усы в порядок не привел — а ведь это занятие каждый день отнимало много времени, — так и вышел в ночную темень с растрепанными усами. В шахту мы спускались в четыре утра — в феврале это не утро, а скорее ночь. До начала смены оставалось еще добрых полчаса, но дома мне не сиделось.