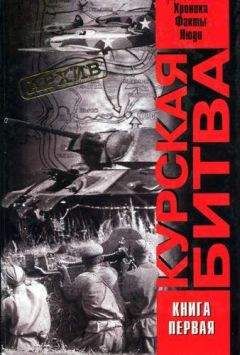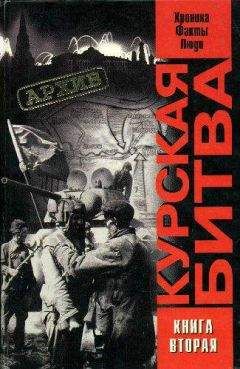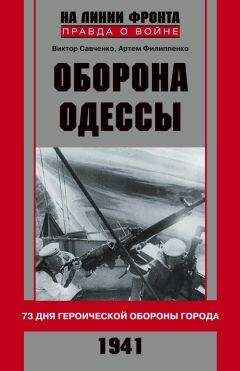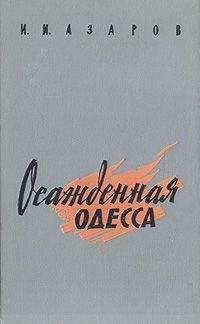— Так… — сказал Генрих и снова прошелся по комнате. Я слышал. — Я понимаю вас. Понимаю… Но взять на себя это я не могу.
— Боитесь? Я расписку дам.
— Дело не в этом.
— В чем же? Я слышал, вы прекрасный хирург.
— Может быть. Не знаю.
— Так в чем же дело?
— Неужели вы не понимаете, что я, именно я, не могу позволить себе. Даже если б хотел.
— Почему?
— Потому что я немец. Немец, понимаете!
— Я это знал. И тем не менее пришел к вам, вы же видите.
Вы пришли. А я вот… ничем не могу вам помочь.
И в этом моя трагедия. — Он загремел какими-то инструментами и вдруг сказал с силой:
— Вот этими руками… Этими самыми руками я мог бы спасти десятки, сотни таких, как вы, а я здесь занозы вытаскиваю.
— Я вижу, — сказал майор. — Но все-таки не понимаю — почему.
— Почему? Потому что, если что-то случится, с меня будут спрашивать как с немца, а не как с врача. А я не имею права бояться, когда у меня нож в руке. У меня не должны дрожать руки.
— Последнее — верно. А предыдущее — чушь, ерунда. Вы же антифашист, вы сидели в тюрьме у Гитлера, вот что главное, а какая кровь течет в ваших жилах… Только расисты этим интересуются.
— Тем не менее из крупной хирургической клиники я попал сюда, в заводскую больницу.
— Да… Ну, ладно, мы еще вернемся к этому разговору. А вас я прошу — подумайте.
— Не понимаю, — сказал Генрих, — зачем нужен вам я, когда к вашим услугам госпиталь, квалифицированные врачи.
Я уже выписался, не хочется возвращаться… — В его голосе послышалась мне усмешка. — Да и ехать надо. А вы тут, близко, под рукой, можно сказать.
Они вышли в коридор вместе, и Генрих велел мне, чтобы я обязательно сам проводил майора домой.
— И не быстро, — предупредил он, — идти с передышками. Ясно?
Они пожали друг другу руки, и майор при этом поглядел ему прямо в глаза. Генрих наклонил голову.
Мы вышли на улицу над дизельной вовсю дымила высокая железная труба — видно, растапливали газогенератор, готовили к пробному пуску дизеля. Надо было идти туда, меня давно ждали, но я не решался сказать Кожину. Он, видно, устал, и не до этого ему сейчас.
— Обратно пойдем? — спросил я.
— Почему обратно?
— Вид у вас усталый. Может, отдохнете, Не надо вам в цех сейчас, особенно в дизельную, газом дышать.
— Пропуск заказан?
— Да.
— О чем же разговор! Не пропадать же пропуску.
— Нет, я кроме шуток, Иван Платонович, нельзя вам рисковать.
Он подозрительно посмотрел на меня, положил руку на плечо.
— Ты слышал?
Я хотел сказать «нет», но язык у меня присох под его взглядом. Я молча глядел на него, как будто не понимал, о чем он.
— Ну вот что. Если ты что-то слышал, то это должно умереть здесь, сейчас, понял? Ну, а теперь пошли. Пошли…
В дизельной было уже довольно много народа. Миша, Махмуд, даже Бутыгин возились у странного, какого-то невероятного по форме сооружения, которое именовалось газогенератором. Только Гагай был как-то не похож на себя, он стоял в стороне, у стены, время от времени поправлял очки — они упорно сползали набок — и молчал. Иногда он бросал какое-то короткое слово или жестом показывал что-то — и все. Я подумал, что, наверно, опять у него приступ, спина белит, и не стал подводить к нему майора. Но он увидел его, сам подошел, боднул головой, пожал руку и снова пошел туда к стене, так и не сказав ни слова.
— Что это он? — спросил Кожин.
— Не знаю. Больной, наверно. Он ведь встал недавно.
Последние приготовления шли к концу, должны были уже открывать вентиля, подающие газ в смеситель. Манометр показывал довольно высокое давление, но никто не знал точно, сколько надо, как себя поведет машина, ведь ничего подобного в практике еще не было, и Маткаримов велел всем отойти от дизелей подальше, остались только машинист, мы с Махмудом и Мишей и Гагай.
— Вы уйдите, — мотнул головой Гагай, — уберите их, Федор Тимофеевич, — обернулся он к Бутыгину.
— Подумаешь, нежности, — ворчал Бутыгин, — не такое делали — и ничего, не сдохли!
Но все-таки он подошел к Махмуду и оттащил его в сторону, потом он пошел к Мише. С ним они, конечно, сцепились, а я не стал ждать, когда он подойдет ко мне, ушел сам. Последнее время я старался вообще не видеть его, не то что разговаривать.
Гагай махнул рукой, машинист дал сжатый воздух, дизель чавкнул, сделал пару оборотов и заглох. Все зашумели, придвинулись ближе, но Гагай поднял руку.
— Теперь смесь в цилиндре, — сказал он. — Ну-ка, давай.
Машинист опять дал воздух, дизель дернулся и вдруг пошел, быстро и энергично набирая обороты.
Стрелка манометра на газогенераторе подрагивала в такт двигателю машины, и это значило, что смесь идет хорошо. Несколько секунд все стояли неподвижно и глядели, словно завороженные, на эту машину, которая работала сейчас черт знает на чем, на какой-то хлопковой шелухе. Это было невероятно, но это был факт. Шелуху закладывали сейчас в топку, выведенную на другую сторону дизельной. Все глядели, разинув рты, а потом бросились обниматься. Только Гагай по-прежнему был как каменный. Он стоял у стены и без конца поправлял свои очки двумя руками сразу. И тут к нему подошел Кожин.
Я видел, как он спросил Гагая о чем-то, тот ответил. Потом они опять о чем-то говорили, и Кожин опять, видно, спросил что-то. Гагай вместо ответа протянул Кожину какую-то бумажку, опустил голову и стоял так долго, не двигаясь, и я видел, что углы губ у него как-то странно вытянулись. Кожин только глянул и тут же опустил руку. И тоже стоял рядом не двигаясь, склонив голову.
А вокруг них бесновались, кричали «ура», кто-то залез на дизель и размахивал фуражкой.
Гагай и Кожин вышли наружу, остановились у входа. Короткий осенний день подходил к концу, уже смеркалось, и было видно, как летят искры из трубы со стороны, где была топка. Подошли мы втроем.
— Завтра еще попробуем, — сказал Гагай, — с меньшим процентом солярки. А сейчас пусть так — пятьдесят на пятьдесят.
— А сколько, вы думаете?
— Надо до тридцати довести.
Он опять поправил очки, оглядел всех нас каким-то странным невидящим взором и вдруг сказал беззвучным, совсем глухим голосом:
— Пойдемте… Ко мне пойдемте…
Я сказал, что должен проводить домой майора Кожина, но тот покачал головой.
— Нет, Слава, мы сейчас все пойдем, вместе.
Кожин и Гагай пошли впереди, а мы втроем отстали немного.
— Чего это он сегодня? — шмыгнул Миша. — Не своей тарелке, что ли?
— Больной, верно, — сказал Махмуд. — Только зачем нас позвал? Может, свернем, а?
— Нельзя, — возразил я. — Кожин там, я его не могу бросить.
Гагай усадил нас всех у стола, долго рылся в шкафчике, принес бутылку мутной жидкости, налил нам всем понемногу. А ему не хватило посуды, он поставил перед собой бутылку.
— Вот, — сказал он, — держал… Держал… Думал, приедет…
Он отхлебнул из бутылки, скривился и вдруг всхлипнул, как ребенок.
— Нет, ну согласитесь, это же несправедливо, дико и несправедливо, — заговорил он быстро, навалившись грудью на стол и сжимая голову руками, — я, понимаете, здесь вот, а она там…
Голос его сорвался, он еще ниже опустил голову, и плечи его затряслись.
— У Юрия Борисовича большое горе, — сказал Кожин. — Его жена погибла на фронте.
* * *
Мы идем с Кожиным обратно, уже поздняя ночь, тьма непроглядная, дождь разошелся не на шутку. Майор, видно, изрядно устал, он идет, тяжело переставляя ноги, мы часто останавливаемся, отдыхаем. Я уж не рад, что согласился взять майора с собой, совсем ни к чему сейчас для него этот поход.
Но он, видимо, думает совсем иначе. Они с Гагаем сидели очень долго, ребята к тому времени уже разошлись, и я не выдержал, уснул у стола. Сквозь сон я слышал только, что они все время разговаривали, а когда Кожин разбудил меня, была уже совсем ночь, лил дождь.
Гагай проводил нас немного, но майор заставил его вернуться. И вот мы идем по мостовой, затянутой глиной, чавкает под ногами земля, стекают за шиворот холодные капли.
— Ну что, — говорит майор, переводя дыхание, — может, стихи почитаешь?
— Какие там стихи, — буркаю я, с трудом переставляя пудовые ноги. Самое гнусное — что глина висит на ботинках огромными комьями, которые растут неотвратимо, и время от времени приходится отряхивать их — иначе ногу не поднимешь.
— Какие тут стихи, — бормочу я, отряхивая по очереди одну, потом другую ногу. Я со страхом смотрю на майора — откуда он узнал про стихи, и вообще, как держится он еще после такого путешествия туда и обратно. Но он как будто ничего — идет рядом со мной, не отстает и даже руку с плеча снял…
Слава богу, про стихи он, кажется, забыл, не вспоминает больше. Идет, молчит, мундштук свой сосет. И тут я вижу справа от дороги тусклое окошко. Я сразу узнал его — оно светится желтоватым светом, чуть мерцающим сквозь голые ветви.