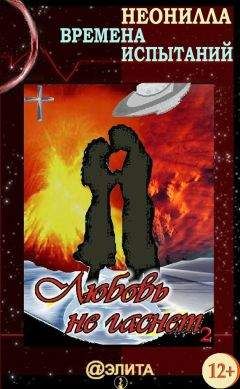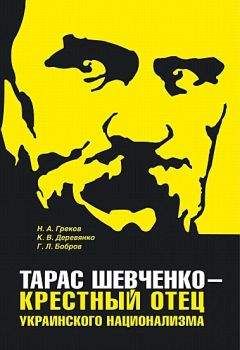На земле их влекли бегущие по рельсам поезда: к близкому Минску и далекой, за сотни километров Москве…
Торопя себя перестуком колес, куда-то по железным ниткам рельсов спешили пассажирские и товарные составы, и после того, как они тоже исчезали вдалеке, особенно густой казалась тишина, и она болела душой против обидной несправедливости, которая лишила Ивана звуков, а поезда мимо него проносились так же безмолвно, как плыли над ним по небу облака.
И так же неслышно, когда Иван готовился взорвать водонапорную башню, к нему подкрались охранники…
Она болела за Ивана острой жалостью, но с самого раннего детства даже не поняла, а интуитивно почувствовала, что проявлять свою боль, открыто жалеть гордого Ивана ни в коем случае нельзя. Иначе рухнет та согласная любовь, что была между ними, и каждый из них останется сам по себе, и будет им плохо.
— Пора ехать. Шестнадцать часов… и десять минут…
У скамейки в сквере перед ней стоял шофер Чернышева.
…Александр Васильевич, как всегда, был настроен решительно. Даже дома:
— По-быстрому пей компот, ешь пирожок — и спать. Перед дорогой надо отдохнуть. К ужину разбудим.
После ужина Александра Михайловна достала из сумочки парижский конверт:
— Последнее от Марселя письмо. О вас тут пишет, и просьба у него. К стыду своему, я доподлинно слова той песни в памяти не удержала.
— Читай, если для нас, — оживился Чернышев.
— Читать буду, как он пишет, без всяких исправлений:
«Я вспоминаю Ниночка и Александр (Чернышевы, она был чудесный Соловушка, заботливая медперсонал и храбрый воеватель. Комиссар Чернышев очень сильно влиял в души партизан, а так же согласно специальности кавалериста проявлял лихую храбрость и военный хитрости. Я даже сечас затрудняюсь представить какой надо было иметь способность вывести группа раненых в беспомощном состоянии через непроходимый болото и удушливые кольца окружений со стороны немецки егерей. Комиссар Чернышев совершил чудо и все раненые являются ему должники своих жизней…»
Александр Васильевич поморщился:
— В целом насчет меня Марсель перегнул. Человек в беде хитрее, чем в радости либо достатке. Но без везения мы из тех болот живыми бы не выбрались. Погибнуть могли, но только не плен — второй раз в плен я бы никак не попал!
— Живыми ты вывел всех нас, — вздохнула Нина Николаевна. — Кроме нашего сыночка. Как ни берег ты меня, беременную, в тех проклятых болотах, а мертвым наш мальчик родился.
— Еще потом у нас дети родились…
— Скучаю я тут в Москве без них до невозможности! Скорей бы конец твоей министерской службе, да возвратиться бы в Минск. Дети, внучата у нас там. А главное — Родина: «Дарагая тая хатка, дзе радзiла мяне матка…»
— Какая просьба у Марселя? — спросил Чернышев.
— Запомнилась ему наша партизанская песня «Бабуся», просит ее слова.
Нина Николаевна достала со стеллажа старую книжку, погладила ее ладонью:
— Отвезешь Марселю этот партизанский песенник. А мы на прощание давайте сейчас споем.
Начали с «Бабуси»:
Бабуся, бабуся, зачем тебя ночью
В отряд принесло к нам сюда?..
Потом спели про березы и сосны — партизанские сестры и про рубцы на стволах берез. Глянув на часы, Чернышев сказал:
— Время собираться. Карета подана. Присаживаясь перед дальней дорогой, напомнил:
— Марселю, товарищу Зеттелю, Яну от нас передавай сердечные приветы. В гости приглашай. Минску и минчанам, кто встречать придет, поклонись, а Демину привет особый. Больше всех меня стал беспокоить наш Командир, здоровье у него… Он же такое в плену перенес!
Глава седьмая
Побег из неволи
(Второй монолог Демина)
Все мы войну на себе испытали, знаем о том, какое оно, горе, по людям ходило. Но самое страшное на войне — это муки неволи. Плен.
Та ночь со второго на третье октября под Шадрицей запомнилась расставанием с товарищами и ощущением одиночества, хотя на восток мы отправились вдвоем.
Моим напарником оказался сержант Арефин: его я видел в боях надежным командиром расчета — верным другом был он в пору скитаний по вражеским тылам.
Вооружение наше составляли две винтовки с запасом патронов и наган с пустым барабаном.
Мокрые ветви деревьев уходили над нами в черное небо, мы шагали по лесу молча, думая свои невеселые думы.
Рассвело, когда вышли к дороге, по которой сплошным потоком катились вражеские танки и автомашины. Навстречу им, по обочинам, брели беженцы. Они пытались уйти от врага, да не успели, и теперь возвращались по домам, в неволю фашистской оккупации.
— Подождем в лесу до темноты, — предложил я. Так и сделали.
Едой мы второпях не запаслись и скоро об этом пожалели. Дневное время тянулось медленно, холодная сырость вызывала озноб. Вынужденная бездеятельность угнетала, и Арефин нарушил молчание:
— Вот и нету нашего взвода. И роты нашей нету…
Мы несли в себе частицу своего взвода, своего полка, своей дивизии. И ненависть к захватчикам. Она росла и крепла постепенно, став нашим естеством, нашим дополнительным оружием, нашими духовными боеприпасами.
Трое суток мы шли по ночам, обходя притаившиеся в темноте деревни. Вынуждены были делать это после того, как на окраине какого-то села наткнулись на патруль гитлеровцев и спаслись только благодаря ленивой беспечности противника и непроглядной дождливой погоде.
На четвертый день холод и голод вынудили нас после полудня отправиться дальше. В сумерках достигли опушки недалеко от шоссе, по которому, пренебрегая маскировкой, двигались машины с включенными фарами.
— Едут, как у себя дома, а мы ворьем крадемся! — возмутился Арефин и в сердцах добавил несколько недипломатических выражений.
Не сговариваясь, мы сняли с плеч винтовки, прилегли у крайней сосны и выпустили по обойме в освещенную автоколонну.
Фары потухли, колонна остановилась и сразу ощетинилась вспышками выстрелов. Над нами засвистели пули, сбивая ветки деревьев. Затем по лесу рванули мины. Воздух сгустился, кисло запахло взрывчаткой, свежерасщепленной древесиной.
Постреляв четверть часа, гитлеровцы утихомирились, и автоколонна тронулась дальше, но с потушенными фарами. Садофий хлопнул меня по плечу:
— Наша взяла! Убили мы там кого либо нет, но фары они погасили. Погасили! Да время на стычку с нами потеряли, а главное, они теперь каждой рощи в тылу своем бояться будут!
Садофий поднялся, рванул ворот шинели:
— На нашей земле в них, гадов, каждое дерево стрелять будет, каждая ветка проклятием стеганет!
Позже я убедился, насколько пророческими оказались слова сержанта Арефина.
Когда движение на шоссе прекратилось, мы перешли его и снова углубились в лес. Вскоре наткнулись на одинокую избушку. Она была пуста. Хозяйственный Садофий отыскал в чулане картошку. Сварили в печи ужин, впервые за несколько дней сытно поели, разморились и стали дремать.
— Погостевали и хватит, — предложил я.
Заночевали в поле, в скирде соломы.
…Мы делаем в жизни немало ошибок, но цена оплошности, расплата за ошибку бывает разной. Малейшая оплошность на войне может стоить дорого. Мне и Арефину она обернулась пленом.
Разбудили нас смех и чужие громкие голоса. Проснувшись, я увидел рослого гитлеровца, который подбрасывал в каждой руке по нашей винтовке с вынутыми затворами и заливался смехом. Двое автоматчиков рядом держали нас на прицеле. Они и еще несколько солдат в зеленоватых шинелях и сапогах с короткими раструбами гоготали тоже.
От горечи и обиды перехватило дыхание, и я рванулся из копны, но Садофий схватил меня за пояс, дернул на себя и зашептал:
— Влипли, Михалыч. Их вон сколько, а мы безоружные. Подорожи собой, перебедуем и эту лихоманку, а все равно сбежим.
Облепленные соломой, мы вылезли из скирды. Смех прекратился. Рослый гитлеровец отшвырнул наши винтовки и вынул из моей кобуры наган. Осмотрев пустой барабан, что-то сказал офицеру.
Тот пригрозил мне пальцем и указал на дорогу:
— Комм! {21}
Пришлось подчиниться.
Нас отвели в деревню Морбудово и заперли в сарае, где уже находилось более сотни военнопленных. Среда них оказались и несколько человек из нашего полка. В том числе капитан Борисенко
Выслушав мой доклад, Петр Игнатович сокрушенно признался:
— И я проявил беспечность. Нас тоже захватили сонными, и тоже в скирде соломы. А немцев привел этот… Грибневич.
— Шакал?!
— Пускай будет Шакал, — согласился Борисенко. — Хотел его Вишня тут же прикончить, но я запретил. Дождемся ночи…
Ночью Шакала забрали к себе охранники, а утром, подкрепившись остатками их завтрака, предатель возвратился в сарай.
К этому времени пригнали новую партию военнопленных, и мы с ними куда-то пошли в колонне, которую охраняли пешие автоматчики с собаками и несколько мотоциклистов. В голове колонны следовала машина с крупнокалиберным пулеметом.