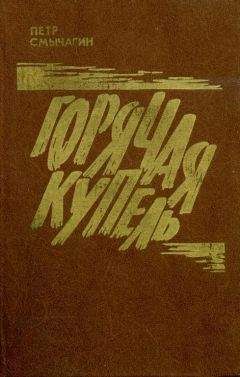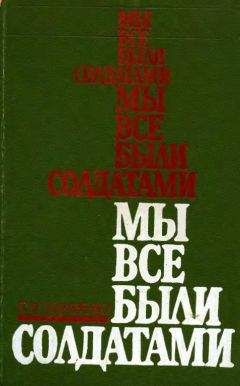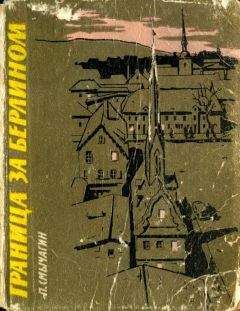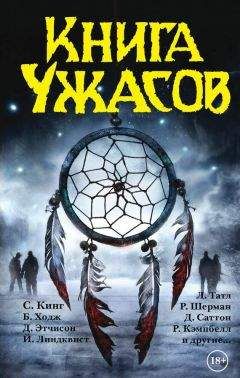— Не беспокойтесь: конь очень смирный.
— Я не об этом. Вообще парень держит себя смелее, чем подобает в его возрасте, — не без гордости пояснил отец, переключая скорость.
По дороге Шнайдер охотно рассказал, что живет в деревне Грюневальд (она недалеко впереди, Володя это знал), что имеет небольшую собственную авторемонтную мастерскую, что во время войны ему пришлось побывать под Курском, что много принял мук и был тяжело ранен дважды.
Слушая Отто, Грохотало заинтересовался, отчего он так доброжелательно относится к офицеру Советской Армии, против которой пришлось ему сражаться.
— О-о! — ответил Шнайдер, усмехнувшись и покрутив пальцем у виска. — Пора и нам понять кое-что. От этой войны я ничего не имею, кроме ранений. Хорошо еще, что голова уцелела...
— А если бы вы победили? — перебил его Грохотало.
— Не победили... Все равно выиграли бы только миллионеры. Наша кровь — их деньги... Вот это мой дом, — спохватился Отто, когда въехали в деревню, и указал влево на небольшой домик с красной черепичной крышей, с садиком и примостившейся рядом мастерской.
— Заезжайте в гости, буду рад. Я вижу, вы здесь часто проезжаете.
— Да вы почти капиталист, — пошутил Грохотало, провожая взглядом шнайдеровское поместье.
— От меня до капиталиста ровно столько же, сколько от земли до неба. У меня никогда не было наемных рабочих и лишних денег, зато у меня есть руки. — Отто показал рабочие руки слесаря, на секунду отпустив баранку.
Грохотало улыбнулся и вспомнил, как рука другого немца только что наводила на него, русского человека, пистолет, и спросил:
— А что, этот Густав Карц очень богат?
— О, совсем нет! Во времена Гитлера он привык жить легко, за чужой счет. До того избаловался, что и теперь не хочет работать. Давно бросил семью, живет по вдовушкам, а жена с детьми бедствует.
— Но почему Карц так жестоко обошелся со своими жертвами?
— Так это же его специальность! Такие люди ценились в гитлеровской армии. Он не привык сдерживать свои страсти, тем более, что, видимо, готовился бежать в Западную Германию. Если ему это удастся, то все обойдется безнаказанно. Только на это он и мог рассчитывать.
— А если не уйдет?
— Будут судить, и, наверное, расстреляют. — Шнайдер говорил об этом удивительно спокойно, как о деле давно решенном. — Только кто его будет ловить? От полицейского он ушел, а граница — вот она, — указал Отто в сторону линии, поворачивая автомобиль к арке заставы. Сегодня может ночью перемахнуть на ту сторону, и никакие наши законы его там не достанут.
Прощаясь, Шнайдер снова предложил заезжать к нему в гости.
Заместитель начальника заставы, старшина Чумаков, встретив Грохотало во дворе, доложил, что никаких происшествий за время отсутствия лейтенанта не было, и, приняв сумку с газетами и письмами, которую привез Грохотало из батальона, пошел раздать их солдатам. Но его тут же перехватил Таранчик и выпросил пачку писем.
Грохотало поднялся к себе в комнату, намереваясь отдохнуть после неудачной дороги, но через минуту пришел туда Чумаков.
— Извините, товарищ лейтенант, — начал он виновато, — я не сказал сразу... Без вас приезжал тут начальник штаба полка...
— Майор Крюков?
— Да.
— Ну, так что же?
— Беседовал он тут с некоторыми солдатами в Ленинской комнате. Вызывал по одному. С Журавлевым так минут двадцать просидел. После него никого не вызывал...
— С тобой тоже беседовал?
— Нет.
«Что ему тут надо? — думал Володя. — Почему приезжал, когда меня не было на месте? Что у него за дела?»
Всегда, когда речь заходила о Крюкове, Грохотало немедленно вспоминался его зловещий жест — решетка из пальцев. На душе становилось мерзко.
Отпустив Чумакова, Грохотало распахнул окно во двор, и оттуда ворвались слова Таранчика:
— Плясовую давай! Плясовую!
Выглянул в окно. Путан, этот коренастый увалень, передавал аккордеон Жизенскому. Ни петь, ни плясать, ни играть Путан не умел. Словом, никакое искусство, кроме поварского, не давалось ему. Загар уже сошел с его полного лица, оно сделалось рыхло-белым и залоснилось, как у заправского повара.
Смочив пыль во дворе, Митя Колесник свертывал резиновый шланг. Митя был все такой же худенький, но лицо его посвежело и возмужало. Солдаты любили этого веселого и ласкового паренька. Карпов помог ему ушить и подогнать гимнастерку так, что теперь она уже не висела и не болталась, и Митя выглядел настоящим солдатом.
Лейтенант отошел было от окна, но со двора послышался заливистый голос аккордеона и, перекрывая его, — снова бас Таранчика:
— Х-хе! Пляшет ведь, хлопцы! А как пляшет, вы только посмотрите! Когда б не я, не видать бы вам такой пляски.
По кругу выхаживал Карпов. Плясать он мог прекрасно и легко выделывал красивые коленца.
В самый разгар пляски к арке подъехал Ганс. Был он почему-то весь пыльный и грязный, но в седле держался бодро. Стремена уже не болтались: Ганс подтянул их высоко и удобно сидел в седле.
«Шлепнулся, кажется, пацан, — подумал Володя, спускаясь во двор. — Надо было самому сразу укоротить стремена...»
Пляска прекратилась, Орла окружили солдаты. Ганса Грохотало сдал на руки Путану, велел провести в умывальник, а потом накормить.
Рана у коня была не такой уж безобидной, как это показалось на первый взгляд. Шип колючей проволоки глубоко вонзился под щетку и выдрал порядочный клок кожи. После перевязки конь совсем не мог наступать на эту ногу и, заходя в стойло, неловко подпрыгивал на трех.
В конюшне Грохотало увидел Карпова. Тот сидел на опрокинутом старом ведре, спрятав лицо в ладони. Привязав коня, лейтенант подошел к Карпову и спросил, что случилось. Вместо ответа тот подал распечатанный конверт.
В письме сообщалось о смерти отца.
Грохотало захлестнуло зло на этого вечного шутника Таранчика и, выйдя из конюшни, он окликнул его.
— Ефрейтор Таранчик прибыл по вашему приказанию!
— Вам было запрещено раздавать письма таким способом?
— Так точно!
— А вы?
— Никак нет...
— В следующий раз буду наказывать за это вплоть до ареста. А пока — один наряд вне очереди!
— Слушаюсь! — с готовностью гаркнул в ответ Таранчик, словно ему объявили благодарность.
Еще с войны прижился этот обычай — захватывать письма, а потом отдавать их только за «выкуп». И никак не отучишь от этой привычки.
Тихие летние вечера солдаты, свободные от службы, проводили в саду, в беседке или просто на траве. Хоть и скучно бывало иногда так вот коротать время, но ничего другого на заставе не было — либо на посту, либо здесь, в саду, или еще на «пятачке» во дворе.
Яблони и черешни стояли неподвижно, точно застывшие. Трава, измученная дневным зноем, сейчас бойко расправила свои листья и перья. Вся зелень, поблекшая под солнцем, вечером начинала жить в полную силу, и запахи, едва различимые днем, теперь густо наполняли воздух.
Земельный лежал на спине, подложив руки под голову, и молча слушал незатейливый рассказ Фролова.
— А знаете, ребята, — говорил Фролов, — я, когда был студентом, представлял себе гитлеровцев какими-то очень страшными... Даже мне сейчас и не сказать, какими они казались. А вот теперь живу здесь, в самой Германии, и не вижу таких немцев, какие мне представлялись. Как это?
— А ты и не бачил настоящего немца-фашиста, — возразил Митя Колесник.
— Но мы же видим их каждый день десятками и, сотнями. Ведь это те же немцы...
— Те, да не те, — не сдавался Митя. — Поглядел бы ты на них в сорок втором, узнал бы, что оно такое. Они бы тебе показались еще и не такими, какими ты их представлял. Мне повезло: я мало в лагере был. Приехал бауэр со своей фрау, забрал нас, таких вот хлопчиков, как я, троих. Сам он мало дома бывал: все ездил куда-то. А фрау его целыми днями нам подзатыльники отвешивала. Другой раз со счету собьешься, сколько за день получишь. Спать не давала, а кормить забывала. Одних бураков, наверно, целую гору на тачке перевозили. Свиней накорми, у коров убери, воды наноси, бураки запарь, силосу привези — и все на себе. А лошадь стоит на конюшне, как та свинья ожирела... Ух, если б та фрау мне теперь попалась!
— А что б ты сделал? — насмешливо спросил Фролов.
Митя смутился и покраснел. В самом деле, что бы он с ней сделал теперь?
— Да ну ее к шуту! — едва нашелся Митя. — Мы и так у них перед концом всех свиней поразогнали и сами разбежались.
Солдаты, не испытавшие фашистской неволи, завели разговор о трудной и опасной фронтовой жизни.
— Э-э, нет, хлопцы, — ожил Земельный, повернувшись на живот и опершись на локти, — то велики трудности, спору нет. Но на фронте у тебя есть оружие: ты всегда можешь мстить врагу за его зверства. А уж коли умирать придется, то и умереть там легче, бо знаешь за что. Знаешь, что гибнешь за Родину, за всех своих. Так и родным напишут. А вот в лагере умирать куда трудней. Никто и не узнает, где ты сгинул. В лагере нет у тебя ни имени, ни звания человеческого — все отнято. «ОСТ» на груди и номер четырехзначный. Измывается над тобой гад, как хочет, мордует, а ты ему и в глаза плюнуть не можешь: пристрелит на месте, как собаку.