— Та женщина... Юля... Ты говорил с ней?
Он вышел и снова остановился в дверях кухни.
— Она уехала.
— Ты попросил ее сделать это?
— Нет. Когда я пришел к ней, чтобы поговорить, открыла соседка и сказала, что она уехала. Совсем. На днях...
Он промолчал, что носил ей один из своих недавних этюдов, где кудрявые березы купаются в щедром свете дня, тщательно завернул в газету, замотал шпагатом и понес, чтобы подарить на память, но не пришлось ничего ни дарить, ни говорить.
— Я сказал бы ей, что жить с ней не сумею, даже если ты...
Со всех сторон все чаще внушали мысль, что любовь не больше чем людская выдумка. Но даже это не разубеждало, любовь была сильнее всяких слов о ней. И, полный любви к женщине, которая приехала с ним в этот город десять лет назад и прожила эти непростые десять лет, он не сводил с нее глаз.
— А чего ты улыбаешься? — спросила Таня. — Почему ты ушел от меня?
— Я не от тебя ушел. От одиночества, Таня. Мне казалось, у тебя ко мне уже ничего нет, даже интереса... И тебе лучше дать волю...
— А Юля? Негодяй!
— Я?
— Выбрал себе добрую душу, вытер ноги, как о тряпку... И улыбается. Она уехала! Тебе радостно. А ей-то каково? Ей!
Таня встала, подошла к нему и дала такую пощечину, от которой зазвенело в оттопыренных ушах.
— Прости, — сказал он.
Некоторое время Таня смотрела на него враждебно, рука ее трепетала. И вдруг она сама резко села на табуретку, словно упала, и заревела так горько, неожиданно. «Таня, Таня!» — хотел прошептать он, но не смел. Ему хотелось утешить ее, рассказать, что Мишук сделал вчера удивительный по цвету этюд — белое на белом, развеселить, но он действительно утратил власть над словами, он ждал.
Вот говорят — женщины рвутся замуж. А знают ли они — каково быть женой-то?
Когда Таня выпрямилась, он безотчетно протянул руку и сиял с гвоздя запылившуюся гитару. Сам не зная толком, что заставило его, он привалился спиной к стене, обдуваемый из открытой форточки, и тихонько запел. Это была старая песня. Она говорила, как на улице дождь, дождь с ветром поливает, а брат сестру качает, рассказывая ей над колыбелью, что она вырастет большая и отдадут ее замуж — во чужу деревню, где и утром дождь, дождь, и вечером дождь, дождь...
Сестрица родная,
Вырастай скорее,
Вырастай скорее,
Да будь поумнее!
И увидел, что Таня прошептала, словно бы сказав это себе:
И как-то совсем просто Таня заметила:
— Голова у тебя теперь мокрая. Причесался!
Едва он кивнул прилизанной головой, зазвонил телефон, так неожиданно, что они оба вздрогнули, и Костя подбежал с гитарой в руке и схватил трубку.
— Папа, папа! — далеко закричал Мишук. — Дедушка умер!
— Мишук?
— Дядя Афон дедушку привез с участка... На сене!
— Ты откуда звонишь?
— С Сиреневой!
И еще Костя услышал безысходный плач матери.
1
— Нефедов!
Он не ответил, а, пятясь задом, неуклюже выбрался из-под печальной своей машины, в разные концы растопырившей голенастые суставы и выставившей какие-то воронки, вроде бы дли масла. Отряхивая на ходу колени, он побрел через весь цех к девушке, кричавшей от стеклянной конторки, где стоял телефон:
— Нефе-едов!
У него была такая походка, что про него частенько говорили — не побрел, а «пошлепал». Безобидно, но насмешливо. Однако он не обращал на это никакого внимания — пусть себе говорят, если это, доставляет им удовольствие. Доставить человеку удовольствие всегда уместно...
Он не считал счастливей себя своих ровесников, работавших вместе с ним на заводе, который делал сельхозтехнику, гордость полей. Просто у них ловчее все получалось. Они могли быстрей пригнать механизм к положенному месту, даже если он не очень на это место лез, завинтить гайку потуже, сигануть через штанги, торчавшие из какой-нибудь технической новинки поперек пути, или через ящик, как нарочно поставленный у самых ног, наконец, погонять во время обеденного перерыва футбольный мяч по пыльной лужайке среди вытрепанной травы под необъятными окнами цеха, а он смолоду лишь смотрел, как они бегали, шумно и весело толкаясь... Если кто-то подходил и становился рядом с ним на краю поляны, он поворачивал голову и с улыбкой объяснял, что совсем не играет.
А если интересовались: «Почему?», он прятался за спасительные слова, подхваченные у любимой жены Веры: «Нрав у меня такой...»
Права он в самом деле был чрезвычайно тихого — от застенчивости и привычки ни к кому ни с чем не цепляться, в общих спорах опять же участвовал разве лишь своей улыбкой. И был у него вопрос: «А зачем?»
Не слепой, не глухой, он сталкивался и с непорядками вокруг себя, и с несправедливостями, еще долго после этого горевал, но не рычал, как лев, и не бросался на борьбу с ними. И дело тут было вовсе не в равнодушии к людям, к природе, к жизни, ничего подобного, а исключительно в отношении к самому себе. Кто он такой? Смешно было себе представить, чтобы из-за него хоть что-нибудь поменялось.
Словом, тихий был человек, скромный. И несмотря на то, что со всех сторон раздавались постоянные и настойчивые призывы к активности, ему искренне казалось, что это не для него. Такой считал себя незаметной величиной... хотя, собственно, в свои тридцать лет был инженером с уже проверенными способностями и к данному моменту трудился в группе, занятой новой свеклопосадочной машиной, которая должна была помочь решению проблемы семенного фонда и тоже стать гордостью полей. Должна, но пока не стала. И никак не хотела становиться. Не получалась машина.
— Кто? Откуда? — спросил Нефедов, кивая на телефонную трубку, валявшуюся на столике и ожидавшую его, пока он «шлепал» сюда.
— От директора, — ответила девушка в косынке с концами, завязанными узлом не сзади, а надо лбом.
Она собирала рядом с конторкой нормальную сеялку. Ненормального в ней было только то, что сеялка вся горела красными и желтыми плоскостями: раскрасили, как на праздник, потому что — экспортный товар.
Спрашивал Нефедов еще на ходу, а теперь остановился.
— Какого директора?
— Завода.
— Какого завода?
— Нашего! Какого! Xы! — девушка прыснула.
— Ну да! — расплылся Нефедов. — Хватит врать-то! — и раз девушка молчала, стал серьезным и скучным. — А зачем?
Из-за сеялки выпрямилась другая сборщица, напарница, пожилая женщина и темном халате, и душевно посоветовала:
— Да ты бери трубку, Юрий Евгеньевич, и все узнаешь!
Он прижал ладонь с растопыренными пальцами к груди, над круглым и довольно внушительным для его возраста животом, откашлялся, прочищая голос, и зашел в конторку, от растерянности плотней закрыв за собою дверь, а девушка еще похихикала и сказала напарнице:
— Вот лапоть!
Дверь конторки все равно скоро отошла на законное расстояние от стеклянной стенки, и сборщицы услышали, как Нефедов спросил:
— А зачем?
И осторожно положил трубку на аппарат.
— Ну? — поинтересовалась пожилая работница.
— Да, — сказал он и беспомощно пожал плечами. — Зовут меня...
— К директору?
Он еще раз пожал плечами, в полном недоумении подняв их чуть ли не до ушей, прилепившихся пельмешками к его круглой, коротко остриженной голове.
— На-ка вот, возьми щетку... почисти брюки...
Он не взял протянутой ему щетки, быстрей обычного прошлепал к дверям из цеха, однако через минуту вернулся и крикнул:
— Спасибо! Велели срочно!
И девушка опять похихикала, сидя на корточках за сеялкой. А пожилая спросила:
— Чего ты? Он работящий, как и отец был... А уж умница! Побольше бы таких!
2
Директор волновался сильней Нефедова, который неподвижно сидел у стола, скрестив пальцы на своем выпуклом животе. А директор был на ногах, метался и неистово упрашивал его, будто бы это он и был просящим лицом.
Нужно понять неправдоподобное смущение Нефедова, он впервые общался с самым крупным начальником на заводе вот так — с глазу на глаз. Поначалу он ничего не слышал, только старался вспомнить, как зовут директора. Дело в том, что, входя в кабинет, от страшной скованности, охватившей его, такой жестокой, что она проникла не только в мысли, а и в спину, Нефедов вдруг забыл, как зовут директора — Семен Павлович или Павел Семенович. Когда вошел — поздоровался глухо и невнятно. А сейчас изо всех сил, напрягаясь, вспоминал и мучился.
Директор же, насквозь седой, словно голову его обложили тонким слоем снега, но моложавый по манерам, забывший тросточку на спинке своего кресла за обширным письменным столом, чуть прихрамывая, размашисто ходил вдоль стены с окнами, в которые щедро било закаленное летнее солнце, и говорил, пока не спросил наконец:
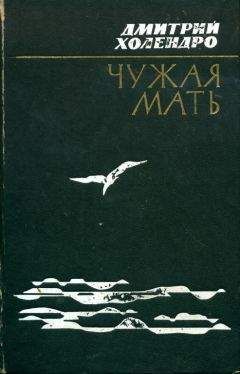

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/262305/262305.jpg)


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149595/149595.jpg)