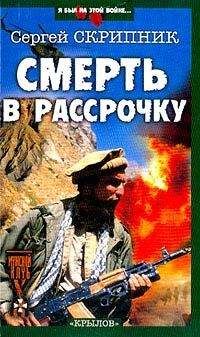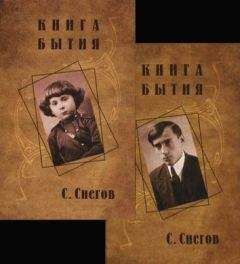— Да тут один капитан-десантник слишком уж нервный наехал на нас, что мы, мол, шляемся по взлетке, — попытался объяснить я, но Небабин резко меня перебил:
— Будет впредь приставать, пошлите его на х… Он вам отныне не указ. Выполняете только мои команды. Тем более что в данной ситуации мне вам и поручить больше нечего. Так что идите, немного отдохните в том аэродромном отстойнике, — подполковник указал на небольшое сооружение позади диспетчерской, — а потом действуйте-злодействуйте. А я сегодня, чувствую, буду без сна. Пойду опять вправлять мозги этим аборигенам. Марксистам, классовым братьям, ибиомать.
Он повернулся и, увязая в грязи, пошел обратно к вышке. Почва вокруг бетонного поля была мерзлой, декабрь все же на дворе, но за какие-то два часа под воздействием тепла от авиационных моторов и турбин она превратилась в липкую жижу. Неуклюжесть длинного, как коломенская верста, Небабина, удаляющегося в сторону обшарпанной диспетчерской, не знаю, как у Суслика, а у меня вызывала умильную улыбку. Я сразу почему-то вспомнил «Золотого теленка» Ильфа и Петрова и того городового, который за пять рублей в месяц «крышевал» Паниковского в Киеве. И не только из-за созвучия фамилий. Того персонажа, помнится, величали Небабой, и после революции он устроился работать музыкальным критиком. Скорее всего, такая невольная реминисценция была вызвана тем, что своего нового знакомого капитана-десантника я определил в басы гарнизонного кружка художественной самодеятельности. «Эх, нашего бы „музыкального критика“ Небабина да на этого голосистого „певуна“, — подумал я. — Он бы ему живо гонор поубавил».
* * *
В 19.33 по московскому времени (21.03 время местное) самолет «Ил-76» (бортовой номер 86 036), принадлежащий 128-му Паневежисскому полку 18-й военно-транспортной авиационной дивизии, базирующейся непосредственно перед вводом войск в Афганистан в казахстанском Чимкенте, заходя на посадку в кабульском аэропорту, врезался в вершину хребта на высоте 4662 метра над уровнем моря примерно в 60 километрах от пункта прибытия.
На его борту находилось 7 членов экипажа, 34 десантника, три техника — всего 44 человека, а также 19 передвижных полевых кухонь, тех самых, из которых подполковник Небабин обещал напоить чаем Суслика. В катастрофе никто не выжил. Раскаты этого крушения были слышны в Кабуле, вспыхнувшее в вечернем небе зарево распространилось на десятки километров, но тогда все приняли отголоски этой трагедии за некое природное явление.
* * *
Внезапное зарево на северо-западе в тот момент только показалось нам с Сусликом предвестником далекой грозы, такой, какая бывает в наших равнинных российских краях или на холмах Молдавии. Спать совсем не хотелось. Поэтому мы даже не стали укрываться в накопителе аэродрома, а устроились где-то неподалеку от него, спешно уничтожили часть сухпая — на чужбине вдруг ни с того ни с сего проснулся волчий аппетит — и приступили к выполнению своего первого «особого задания» — следить, не упуская ничего из виду и не выдавая своего «интереса», за обстановкой на кабульской «бетонке» и вокруг нее.
В горах темнеет рано, но это темнота — не кромешная, хоть глаз выколи, а какая-то прозрачная. Я уже об этом говорил. Самолеты, пронзая мглу навигационными огнями, все садятся и садятся на взлетно-посадочную полосу, выруливают на перрон, ищут, где бы притулиться для кратковременной стоянки, а те, кто уже разгрузился, тут же взлетают и ложатся на обратный курс. Все борта имеют запас топлива для возвращения к местам базирования. Кабульский аэропорт только называется международным. На самом деле здесь не хватает ровным счетом ничего — ни наземного пространства, ни обслуги, ни заправщиков и прочей вспомогательной техники.
Прожекторы мачтового освещения вырывают из этой прозрачной мглы, превращающей все в сплошное бесформенное месиво, делают более рельефными контуры крылатых машин и фигуры копошащихся повсюду людей. Все это напоминает театр теней с сильным шумовым эффектом.
И среди всей этой кутерьмы мы с Сусликом — уже не праздношатающиеся зеваки, а люди, что называется, при исполнении. Автоматы по приказу старшего начальника уже расчехлены и висят у нас на брюхах, будто мы какие-нибудь американские рейнджеры. Пусть теперь какой-нибудь щирый капитанишка из другой «команды» сделает нам хоть одно замечание. Живо поставим его на место.
Между тем встреча с нашим старым знакомым не заставила себя долго ждать. Витебские десантники продолжали прибывать в Кабул (часть из них высаживалась также на военно-воздушной базе в Баграме) и тут же рассредоточивались в окрестностях двух главных афганских аэродромов. Офицер, расшифровавший всей округе нашу «диспозицию», видимо, исполнял роль диспетчера. Он указывал, кому в каком направлении выдвигаться, чтобы не усугублять и без того царящую неразбериху.
Он вновь властными жестами, не принятыми в армии, приказал нам подойти, выкрикнув:
— Эй, «девятьсот сорок вторые»! Эй, «суслики» недоделанные! Быстро ко мне!
Мы отныне не обязаны были выполнять его приказы, но я решил раз и навсегда положить конец его притязаниям к нам. Поэтому, приосанившись, поправив на себе амуницию, я, чеканя шаг, как на плац-параде, подошел к капитану, приставил ладонь к козырьку, представился:
— Товарищ капитан, лейтенант Скрипник!
— Я же вас, по-моему, уже предупреждал, чтобы вы не слонялись по аэродрому без дела! — зло сказал он.
Следом за мной, блистая выправкой, то же самое проделал и Суслик.
— Товарищ капитан, лейтенант Суслов!
— Я уже понял! — Старший офицер смерил нас презрительным взглядом и уже было открыл рот, чтобы продолжить «воспитательную» работу с нами, но я его опередил.
— Товарищ капитан, представьтесь, пожалуйста, как положено.
— Что такое?! — Его лицо вытянулось от полного непонимания происходящего. — Ты что, щегол пестрожопый?!
Но я не дал ему договорить. Инициатива, говоря военным языком, была уже в моих руках. Голос мой прозвучал очень резко, и его звуки как бы повисли в вечернем морозном воздухе, от чего даже сам я поежился. Не говоря уже о Суслике.
— Не щегол пестрожопый, как вы фигурально выразились, а лейтенант Скрипник, — повторил я. — Я не подчиняюсь вашим распоряжениям с того самого времени, как получил приказ на дальнейшие действия от своего непосредственного начальника. Фамилию его называть не буду, но, полагаю, вы прекрасно знаете, о ком идет речь. И не надо больше при посторонних повторять какие-то цифры и шифры. Если они известны вам, это вовсе не значит, что их должны знать и другие.
Бравая «десантура» опешила и на какое-то время примолкла. Все, кто слышал меня в этот момент, замерли в напряжении. Молчание становилось уже просто неприличным, и я первым нарушил его.
— Товарищ капитан, я, как младший по званию, не приказал, а попросил вас представиться, как того требует субординация в отношениях между военнослужащими.
Капитан еще немного помолчал, а потом нехотя, чувствуя себя побитым в этом словесном противостоянии, козырнул, акцентируя свою фамилию на втором слоге:
— Капитан Музыка!
В глубине души я ликовал. «Вот те на! — подумал сразу. — Я его, горластого, в художественную самодеятельность за глаза определил, а у него, оказывается, и фамилия соответствующая!».
— Извините, товарищ капитан, за резкость сказанного, — я еще раз отдал ему честь, — но мы с вашего разрешения продолжим исполнять свои обязанности.
— Можете идти, — произнес огорошенный таким обращением офицер, привыкший, судя по манерам, исключительно командовать младшими, не терпя ни малейших возражений.
Это была хорошая эмоциональная встряска перед длинной зимней афганской ночью, которая хоть и кажется более прозрачной в сравнении с нашими, но все равно начинает со временем давить. Ходить и приглядывать за всеми оказалось на поверку весьма утомительным занятием. Прошел час-другой, и допинг, полученный в результате выигранной словесной дуэли с капитаном Музыкой, окончательно иссяк, и тоска от происходящей вокруг суеты стала казаться невыносимой. Голова тяжелела от нескончаемого рева моторов и турбин, мозги превращались в вязкий воск, что даже думать было больно.
Спрашивается, что делает в такие минуты вынужденного армейского «безвременья» молодой офицер, да и любой военнослужащий, исполняющий в таком холостом режиме свой долг перед Родиной? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, подтвержденный многолетними наблюдениями. Он начинает бездумно уничтожать все съестные припасы, содержащиеся на тот момент в его «СПм».
Первая ночь на чужбине показалась особенно долгой и скучной. Мы несколько раз находили укромные уголки, вскрывали свои вещмешки и планомерно поедали свой сухой паек. К утру трехдневный продовольственный резерв был практически ликвидирован. На плечи теперь давил только запас сухарей. Возможно, это было и к лучшему, а то избыток жести в виде консервных банок с тушенкой слишком уж выгибал позвоночник в не предусмотренную природой человеческого тела сторону и натирал плечи.