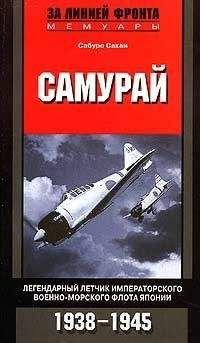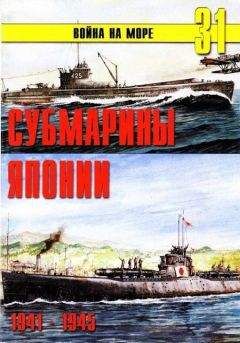Хацуо крепко сжала мою руку и кивнула.
– Я понимаю, понимаю, – прошептала она. – Я действительно хорошо знаю тебя, Сабуро. Намного лучше, чем ты думаешь. Я понимаю, как сильно ты хочешь снова летать. Но я не могу не пожалеть Фудзико.
– Она найдет свое счастье. Она…
Обняв меня за шею и прижав к себе, Хацуо не дала договорить:
– Бедный Сабуро. Не теряй надежды… ты должен верить. Ты будешь снова летать. Я знаю это!
В октябре меня перевели в находившийся в Сасебо госпиталь. Перемена обстановки оказалась как нельзя более кстати: я буду находиться ближе к дому и снова смогу видеться со своей семьей.
Жаркое лето закончилось, было приятно ехать в поезде. Я широко раскрыл окно и подставил лицо солнечным лучам и легкому осеннему ветерку. Я любовался окружающими красотами Японии, чьи горы и холмы, одетые в осенний наряд, делали местность похожей на какую-то сказочную страну. По обе стороны железнодорожного полотна в лучах солнца багровели и золотились деревья.
Через три часа после отъезда из Йокосуки в поле зрения появилась Фудзияма. Я никогда не устану любоваться этой красивейшей из гор. Изящно изогнутые линии склонов плавно переходили в еще не покрытую снегом вершину, скрытую наполовину клубящимся в ярких солнечных лучах туманом.
Страна мирно отдыхала. Здесь не было войны, лишь сотни аккуратных, чистеньких ферм и ухоженные поля мелькали за окнами вагона по обе стороны железнодорожного полотна. Какая война? Я видел пейзаж, казавшийся мне сейчас более красивым, чем раньше. Я воспринимал его совсем по-другому. Теперь я имел возможность сравнивать эти безмятежность и величие с жалким видом Рабаула с его вулканом и отвоеванным у джунглей клочком земли, превращенным в аэродром в Лаэ. Неудивительно, что вид родных просторов вселял в меня чувство покоя.
И все же, думал я, никто из живущих здесь людей не представляет себе, что значит лететь на высоте 20 000 футов над Гуадалканалом и видеть оживший океан, на просторах которого кишат ряды американских военных кораблей и транспортов. А сотни других находятся где-то за горизонтом.
Во многом изменилось мое отношение к происходящему. Летчики из нашей авиагруппы в Лаэ, как я понял, были уникальными людьми. Ни одна другая летная часть морской авиации не могла сравниться с нашей по количеству одержанных в воздушных боях побед. А что уж говорить об армейской авиации, чьим пилотам не хватало мастерства и их самолеты с легкостью попадали в устраиваемые противником ловушки!
Но самому мне пришлось нелегко. Противник переиграл меня, и можно было считать чудом, что сейчас я ехал на поезде в Сасебо. Человек начинает по-иному относиться к войне после того, как врач удаляет из его тела осколки и, утешая, выносит страшный приговор: «Все не так уж и плохо, Сакаи, вы останетесь лишь полуслепым». Полуслепым!
На вокзале в Фукуоке меня встречала мать. Остановка была недолгой, и пассажирам не разрешалось покидать поезд. Высунувшись из окна, я стал махать рукой, стараясь привлечь ее внимание. Впервые за долгие месяцы я почувствовал себя счастливым, увидев радость на ее лице, когда она заметила меня. Она постарела. Ей пришлось проводить на войну всех своих сыновей, и это раньше времени состарило ее.
– Со мной все в порядке! – крикнул я ей. – Все хорошо, мама! Не волнуйся за меня. Теперь все будет хорошо!
Поезд тронулся. Со слезами на глазах она стояла на платформе и, махая флажком с изображенным на нем восходящим солнцем, кричала вслед удаляющемуся поезду:
– Банзай! Банзай!
От врачей в Сасебо я получил предписание остаться на лечение еще на месяц. Я больше не спорил с ними, не умолял вернуть меня в Рабаул. Я чувствовал себя опустошенным, предписания врачей мало заботили меня.
Время в госпитале тянулся медленно, но меня очень обрадовал приезд матери в конце первой недели моего пребывания там. Она осталась все той же прекрасной женщиной! Решив доставить мне радость, она привезла с собой специально приготовленную ею еду, которой я любил лакомиться в детстве. Я очень боялся момента, когда мне придется сказать ей, что я ослеп на правый глаз. К моему изумлению, сообщение об этом, похоже, не расстроило ее.
– От этого ты не перестал быть мужчиной, сынок, – спокойно сказала она.
Больше к этой теме мы не возвращались. Она сказала, что будет навещать меня каждую неделю. Я бы с радостью часто виделся с ней, но стал умолять ее не делать этого. Она постарела, а поездки на поезде отнимали много сил. Ездить по железной дороге становилось все труднее и труднее. Осуществлялись крупные военные перевозки, мест для пассажиров не хватало, и им приходилось испытывать огромные неудобства в тесных вагонах.
В ноябре произошло событие, которое в других обстоятельствах стало бы для меня одним из самых знаменательных в жизни. Теперь же оно мало что значило для меня. В госпиталь пришел приказ о присвоении мне звания уоррент-офицера. Долгое восхождение по иерархической лестнице от простого моряка-добровольца, познавшего всю «прелесть» строжайшей дисциплины и жестоких наказаний, закончилось. Шаг за шагом я продвигался вверх, и вот наконец был вознагражден. Победа эта имела горький привкус, но вместе с ней я получал кое-какие преимущества. Мой новый статус давал мне возможность завершить лечение дома. Я сразу ухватился за предложение хирурга и отправился на окраину Фукуоки к своей семье.
Следующий месяц оказался чудесным. Впервые за десять лет я целых тридцать дней провел вместе с матерью, чья радость доставляла мне огромное наслаждение. Все дышало миром и покоем. Каждый день мать спрашивала меня, когда, по моему мнению, должна закончиться война. Я понимал, что она беспокоится за двух моих братьев, воюющих далеко от родины. Но каждый раз на ее вопрос я честно отвечал, что не знаю.
После этого она обычно оглядывалась по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не слышит.
– Скажи мне, Сабуро, – шепотом молила она, – мы правда побеждаем? Правда ли то, что нам сообщают?
Я снова и снова повторял, что мы должны победить. Мое пребывание дома делало ее счастливой. Я догадывался, как ей хотелось, чтобы период моего выздоровления продолжался как можно дольше.
Через несколько недель после приезда в дом матери ко мне из Токио прибыл корреспондент одной из крупнейших японских газет «Ёмиури Симбун». Он сообщил, что редакция поручила ему взять эксклюзивное интервью у лучшего японского аса, чей рассказ о войне интересовал всю страну (меня же тогда очень интересовало, сколько самолетов противника к этому моменту удалось сбить Нисидзаве и Оте, которые наверняка превзошли меня по количеству побед).
Я сомневался, стоит ли мне откровенничать с этим человеком. Мой рассказ мог быстро повлечь за собой суровое дисциплинарное взыскание. Я позвонил офицеру административной службы госпиталя в Сасебо и сообщил о возникшей проблеме. Он увиливал от разговора, утверждая, что не существует особых распоряжений на этот счет.
– Я не уполномочен препятствовать вам беседовать с корреспондентом, – сообщил он. – Оставляю эту беседу на ваше усмотрение, но должен напомнить, что вас могут привлечь к ответственности за ваши слова. Прошу не забывать, что наша служба не запрещает офицерам давать интервью. Просто будьте осторожны!
Это, разумеется, был отказ. Я вернулся в комнату и сообщил репортеру, что мое начальство не одобряет интервью, о котором он просит. Но так легко от него отделаться не удалось.
– Я вовсе не хотел беспокоить вас, – стал заискивать он, – но я проехал семьсот миль от Токио, чтобы поговорить с вами. Позвольте мне задать всего несколько вопросов. Пожалуйста! Всего пять минут.
Я свалял дурака, согласившись. Он обладал редкой способностью изворачиваться и расставлять ловушки. Его «пять минут» растянулись на три дня! Каждое утро он приезжал ко мне домой из гостиницы и вел подробные записи.
Мне еще никогда не приходилось сталкиваться с подобными людьми. Он заставил меня говорить почти обо всем. Его вопросы не имели непосредственного отношения к войне, но рассказы о произошедшем со мной, так или иначе, затрагивали войну. Он вскоре выяснил, что я утратил оптимизм и что находящиеся в Рабауле летчики морской авиации, несмотря на их успешные действия, ведут сейчас неравную битву в Гуадалканале практически без всякой поддержки армейских истребителей и бомбардировщиков.
– Нам требуется больше истребителей и больше опытных летчиков, – забывшись от злости, заявил я ему. – Каждый истребитель после ста пятидесяти часов полета должен проходить капитальный ремонт. Это не имеет отношения к полученным повреждениям в боях. Даже не сделавший ни единого выстрела и не получивший ни единой пробоины самолет подлежит ремонту. Но сейчас мы себе больше не можем этого позволить. Истребитель считается боеспособным, даже если он поврежден огнем противника и прошел ремонт после двухсот часов полета.