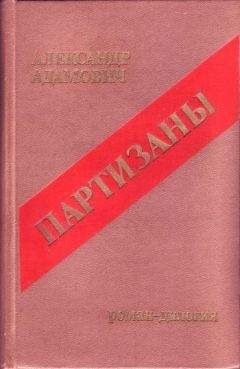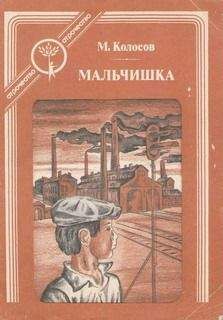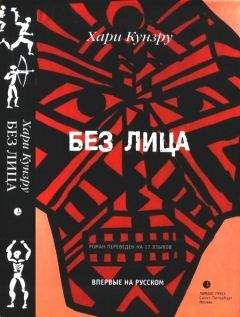– Я к вам. Не могу больше. Пойдите посмотрите, что Пуговицын натворил. Приходит, грозит, требует бог знает что, перевернул все…
– Не надо, Анна Михайловна, я сделаю, что смогу. Идемте.
Шумахер пошел впереди. Знакомые больничные коридоры пугают.
– Сюда, – сказал Шумахер, как бы уводя женщину от того, что лежит у стены.
А там лежит человек в пятнистом белье. Голова неестественно завернута, со щеки что-то свисает, повертывается, как на ниточке. Глаз, выдавленный человеческий глаз! Шумахер, трусливо подняв плечи, прошмыгнул мимо. Анна Михайловна впервые подумала о нем с холодной неприязнью. Ей сделалось еще страшнее, точно Шумахер уже предал ее. А она, идя сюда, очень рассчитывала на него…
– Обождите, – уже как-то отчужденно сказал Шумахер и пропал за дверью, которая когда-то вела в приемную ее мужа (заметно даже, где табличка висела). Анна Михайловна осталась лицом к лицу с солдатом, который будто придавил ее к стене тяжелым взглядом. Женщина уже не знала, что она скажет, как скажет, когда войдет к коменданту. Она понимала только одно: не следовало приходить сюда, она совершила что-то непоправимое. Большой, как луковица, глаз человека, лежащего у стенки, все качался на ниточке-нерве и страшно смеялся над всеми чувствами, словами, которыми она собиралась убедить и победить немца-коменданта. Солдат вдруг показал на замученного и удовлетворенно сказал:
– Партизан.
Открылась дверь, выглянул Шумахер.
– Заходите.
Комендант сидел за столом, боком к двери. Напротив – человек в черном мундире. Он настолько мал, что локоть его, опирающийся о стол, почти на уровне плеча. Его глаза первыми встретили взгляд вошедшей и как бы сказали: «Для меня все тут понятно, и я знаю, что с тобой делать, но любопытно, что здесь произойдет, любопытно…» Человечек посмотрел на коменданта выжидающе и с откровенной иронией.
Комендант повернулся к двери. Лицо женщины показалось ему знакомым. Требовательно взглянул на переводчика.
– Говорите, – тихо сказал Шумахер.
– Я пришла предупредить… сказать, – глядя в узкое лицо коменданта, начала женщина. – Или арестуйте меня, или дайте нам жить, или мы… или я должна буду уйти в лес.
Слезы загнанного человека, которому все уже безразлично и ничего не страшно, заблестели на глазах говорившей. Женщина пришла обмануть врага, но когда она говорила о том, что ее мучило, что пугало, она говорила с искренней болью и страданием.
Шумахер перевел и что-то от себя добавил, видимо о ночном погроме, учиненном Пуговицыным. Наступило молчание, Анне Михайловне оно казалось тяжелой дверью, медленно и навсегда закрывающейся у нее за спиной.
Теперь уже и комендант смотрел на женщину с откровенным любопытством, а маленький немец так и впился в нее хищным взглядом.
Анне Михайловне было страшно, слезы текли сами, но она знала, что страх надо скрыть, а слезы – пусть. Она плакала искренне, но одновременно понимала, что плач ее и должен быть искренний.
Комендант что-то сказал.
– Он что, приставал? – спросил Шумахер и добавил: – Пан комендант интересовался, вы ли это были на свадьбе. Я сказал, что да.
Еще не зная, как он поступит, комендант присматривался к худолицей интеллигентной женщине в большом белом платке. Уйду в партизаны! Ничего не скажешь – смело. Нет, это скорее уверенность, что невиновный может смело смотреть в глаза каждому. Чем-то очень устаревшим и беспомощным веяло от этого. Комендант даже развеселился. Он мельком взглянул на маленького немца в черном мундире. Лишь такой вот тупица может заподозрить, что у этой женщины в голове есть что-либо кроме страха за детей. Для него все тут просто. Пришел русский и говорит: пойду в партизаны. Хватай и стреляй его, яснее ясного. Братья моей Эльзы никогда не отличались особой склонностью к умственным усилиям, потому-то они все сделали карьеру. Вон как глазками впился! Я тебя сейчас удивлю, уважаемый родственничек. Вам всегда казался старомодным чудаком муж вашей сестры. А тут ты и рот откроешь.
Шумахер продолжал переводить:
– У меня дети, я мать и не хочу, чтобы они погибли под деревом. Но такие, как этот ваш Пуговицын, заставят на все пойти. Вот так у вас и партизаны делаются. Полицейским только и надо, чтобы в лес убегали, барахло им достается. Придет время, они вас предадут, как свою родину предали.
Комендант удивленно смотрел на женщину. Да она его мысли читает! Это или очень хитрый и опасный враг, или же…
Женщина обманывала врага с полной искренностью. То, что они считают виной, – это святое право человека оторвать от лица руку, не дающую дышать. То, что они считают преступлением, – это ее нелегкое право рисковать детьми, идти навстречу самой большой опасности ради той жизни, которая так нужна ее детям.
Комендант все больше верил, что перед ним лишь домовитая наседка, которую глупо принимать за птицу, могущую летать.
– А если мы тебя за ноги подвесим, что ты заговоришь?
Произнес это по-русски маленький эсэсовец. Он поднялся со стула, но остался маленьким. Казалось, оттого он постоянно желчный, что всегда маленький. Женщина обмерла вся, но в лице не изменилась.
– А если мы за ноги тебя?..
Не понимая, о чем говорят, комендант раздраженно взглянул на Шумахера. Тот сказал по-немецки, маленький закричал, подергивая головой, указывая на женщину. Комендант, очень довольный, выжидающе молчал, давая возможность родственничку выкричаться. Потом встал, такой высокий и тонкий перед маленьким. Шумахер обрадованно перевел его решение:
– Можете идти, никто не смеет трогать вас, если вы не виноваты. Пуговицын будет наказан.
Женщина вышла на крыльцо, и ее ослепила белизна снега, солнца, неба.
Приходил Шумахер. Посмотрел на разгром, учиненный Толей и Алексеем, и сказал:
– Ну, ничего, больше он не посмеет к вам прийти. Обещаю.
Постоял в нерешительности.
– А вы все-таки будьте поосторожней, Анна Михайловна.
Мать не стала возражать. Сказала только:
– Вы многим помогли.
Шумахер понял.
– Всех, Анна Михайловна, и я не обогрел. Найдутся, что и на меня в обиде. Думаете, я не понимаю, к какому концу все идет? Давно понимаю. Я дочку здесь схоронил и жену. Господи, как немцы искупят свою вину? Я ведь тоже немец…
– От нас самих все зависит.
– Ох, Анна Михайловна, что может маленький человек, когда тут державы!.. А на хорошем слове – спасибо.
И вдруг сказал:
– Позавчера ездил в Большие Дороги. Думал, выручу своего зятя. Поймали его. Ничего не помогло. Казнили. Чужой человек, но он мой единственный родственник. Теперь – никого.
Сутулясь, пряча голову в воротник, Шумахер вышел на кухню.
– Я расскажу, что он тут натворил. Пуговицына на сутки в холодную посадили. Но радоваться этому не приходится. Он теперь прилипнет к вашему дому. Захочет свое доказать.
Шумахер был прав. Прямо из карцера Пуговицына вызвали к коменданту. Тот был не в настроении после ночной попойки с братом покойной жены, маленьким эсэсовцем. Через него же раздраженно приказал немало озадаченному Пуговицыну: если кто-либо из семьи аптекарки окажется за чертой поселка – стрелять без предупреждения.
О приказе коменданта в доме Корзунов не знали, хотя тут понимали, что Пуговицын теперь стал еще опасней. И надо же было как раз прийти какой-то женщине. Она потопталась у порога.
– Вы в аптеку? Идите, я сейчас, – неприветливо сказала ей мама.
Женщина не уходила.
– Я к вам.
– Что значит ко мне?
Запинаясь и заговорщицки блестя глазами, женщина стала что-то шептать.
– Вы с ума сошли! – оборвала ее мама. – Какой там Митька, какие хлопцы! Да я сейчас полицию позову!
Женщина испуганно метнулась к двери. Глаза у мамы большие, лицо красное, волосы растрепались. И голос с бабьим визгом:
– Сейчас же иду в полицию!
Женщины и след простыл.
– А может, и правда, что послали, – сказал Алексей. Действительно, очень уж искренне испугалась женщина.
– А если она от немцев? И даже если оттуда. Как могут они так рисковать своими людьми? Это же надо, совершенно незнакомой бабе поручили. Там, может быть, сифилис у кого-нибудь, а ты расплачивайся семьей.
Толю покоробило: такие слова в устах мамы, да еще о партизанах!
– Сегодня пойду и узнаю. А если уже подсылают эти, тогда совсем плохо. Надо что-то предпринимать.
В этот вечер все было как обычно.
Дедушка курит и глухо кашляет, Алексей кочергой разбивает головни, бабушка спит, как всегда, поперек кровати. Мама в спальне, а Нина за столом с книжицей – старательно шевелит губами, заставляя подрагивать пламя коптилки. Кажется, что сумерки, сгущаясь за окном, становятся все более сильным, властным потоком, который, захватив твой дом, уносит его куда-то прочь от других домов, других людей, других жизней. Только ты и те, что в доме, – остальное все далеко. И комендатура далеко, и немцы… Особенно если перед глазами у тебя книга. Последнее время Толю все больше тянет читать прозу. И особенно в такие вечера. Стихи – чужие, свои – он любит шепотом повторять по утрам, когда только проснется. И тогда он упивается собственным голосом, как токующий глухарь. Утром все голоса громкие – и вокруг тебя и в тебе. Зато в такой вот вечер хочется тихонько, незаметно войти в жизнь других людей, оторваться от того берега, где немцы, бобики, комендатура. Толя читает «Жизнь Клима Самгина». Очень нравится ему, как люди у Горького разговаривают. Будто те давние коробейники: каждый показывает встречному, что у него припасено интересного. И у каждого – неожиданное, свое. Хочется и в свой «короб» заглянуть, поднимается острое любопытство к самому себе, ко всему, что в тебе есть. И к жизни любопытство, особенно той, взрослой, которой принято стыдиться, но которой взрослые, оказывается, совсем не стыдятся…