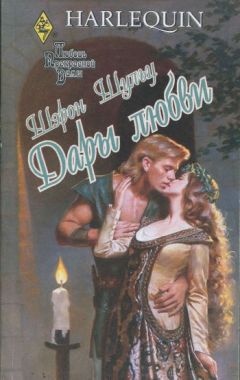— Что за чертовщина! — пробубнил Тентен. — Торчим в столовой, вместо того чтобы спать. Ох, и попадет мне от Маринетты.
Они молча перешли в кухню.
— Ну, вот и полночь. Хочешь не хочешь, а придется лезть под одеяло.
Он радовался, как ребенок: Деде будет ночевать у него! Тентен не любил, когда тот шлялся по улицам после комендантского часа. А сегодня особенно опасно — могут подстрелить, как воробья. Деде значил для него гораздо больше, чем товарищ по оружию, больше, чем друг. Он был для него все равно что сын. Эх, был бы у него свой сын!
— Ну, иди отдыхай. Спокойной ночи. Ты там не заблудишься?
— Спокойной ночи, Тентен… Когда вернется Маринетта, скажи ей, что рагу было бесподобным.
И Тентен, хозяин кафе “Король вина” на площади Сален, и Деде, металлист по профессии, а ныне — так решило подполье — страховой агент, отправились спать.
— Вагнер!… Вагнер… Опять Вагнер!
— Нет, Мари-Те, Вагнер — всегда Вагнер, и еще раз Вагнер.
— Вот как?
Мари-Тереза, или, как ее когда-то называли в колледже, Мари-Те, прервала разговор и пристально посмотрела на отца, который поглядывал на нее из-за газеты, и засмеялась:
— Ну и чудак же ты, папа!
Доктор и его дочь искренне и глубоко любили друг друга, хотя эта любовь, помимо радости, временами приносила им и горе. По молчаливому и обоюдному согласию между ними установились особые отношения; они, казалось, игнорировали прописные правила — основу, на которой покоились отношения отцов и детей. Чрезмерная опека полностью исключалась.
“Ну как этих современных детей воспитывать? Подумать только — она разговаривает с отцом, с доктором Бучем, словно с каким-то сокурсником. И считает это абсолютно нормальным”.
От вольностей в разговоре до вольностей в отношениях всегда один шаг. И Мари-Те нередко переступала эту черту. Само собой, дочь не считала его безгрешным… Фактически с того времени, как умерла госпожа Буч… Вот уже двенадцать лет? Ну и ну…
Когда-то он заверял жену, что эта девчушка — его первый подопытный зверек. Что же, теперь он получает, что заслужил! Он все-таки виноват… очень виноват… А дочь у него чудесная, он еще не раз сможет убедиться в этом. Но не слишком ли дорогой ценой?…
Мари-Те тихонько прикрыла двери гостиной и села на дивам, настроила радиолу и украдкой наблюдала за отцом, который отложил газету.
— Ты все еще читаешь эту половую тряпку, отец? Вагнер и “будущее новой Европы”! Можно подумать, что в нашем доме живет коллаборационист.
Доктор Буч ничего не ответил на ироническое замечание дочери. Казалось, он весь углубился в разглядывание черных кругов пластинки и подгонял взглядом их вращение, точно хотел поскорее добраться до конца “Идиллии Зигфрида”. Только бы не выслушивать замечания этой девчонки.
Эти двое, несмотря на огромную любовь друг к другу, имели свое яблоко раздора: Рихард Вагнер и движение Сопротивления. Отец уходил в музыку великого композитора, как уходят в далекие леса от ежедневной суеты, дочь же, наоборот, ненавидела Вагнера, потому что он был немцем. Она с самого начала была сторонницей Сопротивления, а он не верил в успех вооруженной борьбы.
— Что ты делала в моей комнате?
Доктор Буч задал этот вопрос наугад, лишь бы избежать нежелательного и острого разговора.
— Читала листовку.
— Ты читала листовку?
— Точнее — подпольную газету “Овернский патриот”. Вот, цитирую дословно: “Мы обращаемся ко всем, кто может держать оружие, кто хочет бороться с врагом. Всеми способами — от агитации до вооруженной борьбы”.
— Кто дал тебе эту газету, Мари-Те?
— Не знаю.
— Как не знаешь? Ты что, смеешься надо мной?
— Я нашла ее в кармане пальто, когда уходила с лекции.
— Прекрасно!… И ты, я вижу, согласна с этим… обращением…
— Разумеется!
— И ты одобряешь сегодняшнее покушение?
— Какое покушение?
— Сегодня убит немецкий офицер.
— Убит?… Наказан, хочешь ты сказать? Ты спрашиваешь, согласна ли я с этим? Я вижу в этом акт гуманности хирурга, который одним взмахом скальпеля отделяет от тела нездоровый орган.
— Сразу же после покушения немцы организовали облаву. Арестованы десятки людей.
— Не разбив яиц, яичницу не приготовишь. Расскажи мне о покушении, папа.
Доктор Буч не ответил. Он вытащил трубку из кармана старой домашней куртки, секунду подержал ее, как бы забыв, для чего она предназначена, машинально поднес ко рту п стиснул ее желтыми от табака зубами. Но раскуривать ее не стал. Его взгляд задумчиво витал по комнате, не задерживаясь ни на чем, равнодушно скользя по китайским гравюрам в позолоченных рамках, дорогой мебели, пушистому старинному ковру.
Разумно ли он поступает, давая Мари-Те такую свободу действий? Его любимая малышка! Разве не его обязанность защищать ее от влияния других и в первую очередь от нее самой? Что бы там ни было и чего бы это ни стоило. Это же его ребенок!
Мысли туманили его взгляд. Невыразительные, бесформенные, они, едва родившись, исчезали, словно призраки.
С черной пластинки летели в пространство первые аккорды “Зигфрида, богатства мира”.
Доктор Буч посмотрел на дочь, которая время от времени поглядывала на пего, заинтригованная внезапным молчанием и недовольным видом отца. Так они и сидели, молча глядя друг на друга. Мари-Те ждала, чтобы первым заговорил отец; доктор Буч чувствовал, что должен сказать что-то значительное, важное для судьбы Мари-Те, по не мог справиться со своими мыслями, а тем более — высказать их.
“Это в высшей степени неразумно, что я устраняюсь от ее воспитания, не осмеливаюсь прибрать ее к рукам. Дочь моя, Мари-Те! Я желаю тебе удачи во всех начинаниях. Но знай, мне, твоему отцу, очень за тебя страшно”.
В присутствии дочери доктор Буч временами чувствовал себя беспомощным, до смешного неуклюжим и робким.
“Я ее не понимаю. Я никогда не понимал ее как следует, мою малышку, которую Берта оставила мне. Где уж мне понять девичью душу — таинственную, непостижимую. А понимает ли она меня? Уверен, что нет. Мы живем под одной крышей, переживаем одно и то же смутное время, по мы не вместе. Кто из нас более прав?”
И он подумал о своей жене, красивой и нежной, “словно лепесток цветка” — так он однажды выразился; чистую, словно ключевая вода, утонченную, как старинные драгоценности. Редкостная была женщина. Настоящая жена, хозяйка дома. Грамотная, разумная и практичная. Но принципиальная. Такая принципиальная, что спасу нет. Ревностная протестантка. “Твое небо соблазняет меня найти на нем вечность, — любил он ей говорить, — но избавь меня бог встретить там твоего пастора”. Ох, этот пастор! Он отравил их жизнь. “Совесть, тень моей жены”, — говорил доктор своим друзьям с горечью. Пастор Брайтон… Око божье на земле. Какая бессмыслица! Этот пастор постоянно был у них в доме как равноправный член семьи, даже когда правил службу в божьем храме. Семейная жизнь втроем. И он должен был терпеть его присутствие.
— Ты… слабовольный, папа.
Мари-Те сразу же пожалела о сказанном. Вышло очень бестактно. Она чувствовала бездоказательность своего замечания.
— Что ж, извини! — просто проговорил доктор.
Мари-Те смущенно опустила голову. Наступило зловещее молчание, усиленное тревожным финалом “Зигфрида”. И внезапно доктор взорвался гневом:
— Ты меня очень обяжешь, если сейчас же отправишься в свою комнату, — голос его дрожал, — и будешь ждать моего решения относительно тебя. Иди!
Он резко поднялся, выпростав сухое, словно виноградная лоза, тело, и воинственно указал трубкой на дверь. Мари-Те не двигалась, готовая просить прощения.
— Ты это сделаешь, клянусь богом! — гремел доктор Буч.
Пораженная такой неожиданной вспышкой гнева (“я уже не впервые вывожу его из себя”), она молча подчинилась.
Когда она подошла к дверям, доктор Буч тихо позвал ее:
— Мари-Те…
Она обернулась.
— Мари-Те, я…
Она подумала, что отец хочет переспросить ее. Нет, только не это! Девушка бросилась к радиоле, рывком выключила ее, поцарапав пластинку иголкой, и хлопнула за собой дверьми.
Часы на кафедральном соборе пробили полночь, когда Мари-Те, наконец, решила ложиться. На улицах было совершенно безлюдно.
Раздеваясь перед зеркальным шкафом, она невольно залюбовалась своим телом, несмело поглаживая тонкими руками маленькие девичьи груди, округлые бедра, плоский живот и стройные ноги. Она радовалась своей молодости, красоте. Мари-Те подошла вплотную к зеркалу, словно намереваясь обнять собственное отражение. От прикосновения к холодной поверхности стекла по телу побежали мурашки. С минуту она всматривалась в большие зеленые глаза, которые, казалось, жили своей независимой и напряженной жизнью. Глаза, которые обрекали на муки батальон Армии спасения, как говорили ее друзья по факультету.