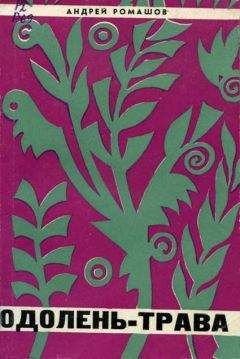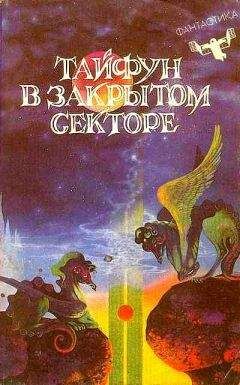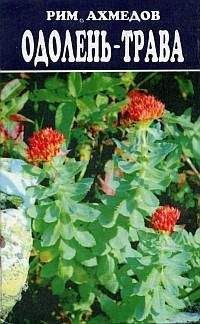Зашел он в самую бедную избу. Справные хозяева, думал, чужую девушку в дом не возьмут, ведь не работница. Зашел и ошибся. Оказалось, Матрена Семеновна на другом конце деревни живет, в пятистенной избе, и двор у ней крытый. Встретила она его приветливо, чаем угостила, похвалила Захария, что умен был, побрякушками людей тешил: помню, зашла на пасху к Большаковым, Захарий в креслах сидит, хозяина уговаривает, чтобы жил как живется, чужие грехи не считал, своими не мучился, скоро-де волнение всенародное будет, которое всех определит. Пьяный купец, помню, башкой лысой трясет и смысла от жизни требует. Смыслом, говорит Захарий ему, не обзавелся, но скворец ученый имеется, матерные слова выговаривает чисто. Повеселел, вижу, купец, обрадовался, деньги сует Захарию…
Никифор слушал хозяйку, а сам думал, с чего разговор начать, как подступиться, ведь не чай пить пришел в Просверяки, не сказки слушать, а невесту сватать.
Дверь в горницу была завешана полосатой материей. Он туда не глядел, как живет Александра — не расспрашивал. Пока за столом сидит и на хорошее надеется, а что потом будет — неизвестно. Может, посмеется над ним Александра или со спасибом скажет, как у барышень водится, и пойдет он один-одинешенек по холодным полям. За раздумьями не заметил, как она из горницы вышла, возле печки встала, в двух шагах от него.
Хозяйка чаю ей налила и спросила: узнает ли гостя? Как не узнать, ответила девушка, летом виделись часто.
Никифор поздоровался с ней и стал рассказывать, как упрашивал его Сафрон Пантелеевич в Просверяки сбегать, про родную дочь справиться. Ты, говорит, быстро обернешься молодой да скорый, а мне тяжело, ногами страдаю…
Глаза у Александры сухие, сердитые — не верит она рассказу, но стоит и слушает, руки о теплую печку греет. Холщовое платье на ней. Живот небольшой, а телом уже огрузла и на лице бурые пятна. Жалко ему стало девушку, разве такая она летом была, на Безымянке. Начал он разговор о замужестве — дескать, есть человек один, который чувства имеет к ней, а все другое прочее во внимание не берет. Она ничего не сказала, повернулась круто и ушла в горницу. Покачалась и затихла полосатая занавеска.
Никифор поблагодарил хозяйку за хлеб-соль и пересел поближе к дверям. Уходить сразу неловко, и сидеть стыдно, да еще напротив горницы. Не тонко разговор он начал, обиделась девушка. Какой он жених для нее! Зажитка нет никакого, и рыло неподходящее, думал, польстится Александра на законное замужество, чтобы грех свой прикрыть, а она не польстилась.
Снял он зипун с гвоздя и поклонился хозяйке — прощайте, сказал, Матрена Семеновна, что если и не так было, не обессудьте. Зипун в избе надел, а шапку на крыльцо в руках вынес. Шел по безлюдной улице, думал, что к ночи опять мороз крепкий ударит, зазвенит небо.
За деревней его Матрена Семеновна догнала и сказала, что иные люди неразумные на огонь летят, потом кулаки кусают, смолчать-де хотела, но, молодца жалеючи, проговорюсь — нету за Александрой приданого никакого, хорошо знаю.
В лес зашли, под озябшие елки. Деньги или имущество какое, думал Никифор, в хозяйстве никогда не лишние, но Александра денег дороже.
Матрена Семеновна рядом семенила, искоса на него поглядывала. А он молчал, боялся, что не поверит ему старуха, еще дураком обзовет за сердечные чувства.
Перед крутым логом Матрена Семеновна остановилась и сказала, что запровожалась совсем, поля уж скоро, самое продувное место.
Матрена Семеновна домой в деревню ушла, не попрощавшись с ним, а он по шадровитой дороге стал в лог спускаться.
В полях ветер гулял, воронье кружилось над уметами. Не любил Никифор большие поля, холодно и тоскливо на них зимой.
Восемь верст его ветер хлестал, а перед селом стих, будто и не было.
Избу Сафрона Пантелеевича Никифор обошел, даже на окна не поглядел, торопился в лес зайти, под знакомые елки. Пока осинником брел, сумрачно было, а на Безымянку вышел — луна поднялась, одинокая береза засветилась над белым омутом. Летом под этой березой он уху варил, а они разговаривали, пустые разговоры вели и радовались, как дети малые. Раз только забеспокоилась Александра, обняла, не таясь, Юлия Васильевича и заплакала — ничегошеньки, говорит, вы, господин лесничий, не знаете про нашу крестьянскую жизнь, страшна она…
Домой тогда Никифор пришел уж под утро. Пискун с печки слез, поохал, жизнь поругал непутевую, пожаловался на нездоровье и стал расспрашивать: чем путевое хождение к Сафрону закончилось и какие словеса плел сей агарянин?
Хотя и держало прошлое Никифора за обе руки, но жить приходилось настоящим. Встал он рано, затопил печку, принес два дружка воды, опалил на шестке выпотрошенных тетерок. Проснулся Юлий Васильевич, по-стариковски закашлял. Никифор развязал его и опять принялся кухарничать — отодвинул разгоревшиеся дрова, поставил к веселому огню птичий суп.
Помаленьку светало. Озябшие елки стучались в синие окна, просились в избу. Вспомнил Никифор, как сердился на них Пискун, порывался лапы отрубить елкам, дескать, страх они стуком своим наводят и мысли в голове путают, морока одна от них.
Никифор, как мог, защищал елки, уговаривал церковного сторожа, что не они виноваты, а ветер.
Пискун ругался — тебе хорошо, языщнику, по лесу шастать, а мне на печке боязно одному. И верно: после неудачного сватовства совсем забросил он сторожа, жил все время в расстройстве, уходил из дому до свету, возвращался в потемках, за день верст сорок исхаживал, все ждал, может, лес знак какой подаст ему.
Стуча валенками, подошел Юлий Васильевич, встал у печки и протянул руку к сухому теплу. Горе, видно, одного рака красит, подумал Никифор, глядя на худого измятого офицера.
— На службу не собираетесь, уважаемый? — спросил его Юлий Васильевич.
Он ответил ему, что не собирается, дома дел накопилось, в избе надо прибрать — крещение скоро, зимний праздник.
— Вот как! А циркуляр сто девяносто седьмой, требующий от чинов лесной стражи неукоснительного выполнения обязанностей?
— Какие циркуляры, Юлий Васильевич? В такое-то время. Отменила их революция.
— Значит, богоявленские мужики, уважаемый, могут безнаказанно лес воровать?
— Немного, Юлий Васильевич, в Богоявленском селе мужиков осталось. Кто с германской войны не пришел, кто воюет. А старики, побогаче которые, офицеров белых катают на сытых лошадях.
— Стихийные бедствия, уважаемый, лесного сторожа от службы не освобождают. Он должен «быть при посте», как изволил выражаться Иван Емельянович Большаков, купец второй гильдии.
Никифор понял, что шутки шутит господин лесничий, время тянет, ждет, когда потеплеет в избе, чтобы по-барски умыться. Только бы Семен не проснулся, а то беда — сам разволнуется, Юлия Васильевича обругает.
Светло стало в избе. Новый день начинался. Какой-то он будет? Раньше недобрые дни больше от погоды зависели. В сушь — пожары донимали, в ненастные дни поясница болела. А теперь беда на погоду не смотрит.
Застучал Юлий Васильевич у рукомойника, Семен проснулся, попросил пить. Никифор побежал к сыну, попоил его, стал погоду нахваливать, дескать, снег добрый на улице, зверю и птице на великую радость.
Пока он про птичью да звериную жизнь толковал, Юлий Васильевич умылся и уполз, спасибо, на нары.
— Пойду я суп досмотрю, — сказал Никифор сыну.
— А мне, тять, ротный командир ночью приснился: верхом на коне сидит. С шашкой. Как полагается! А на голове бабий платок. Вот и думай, к чему такой сон?
— Живут люди, Сеня, не по охоте своей, а куда их жизнь-судьба забросит. Иной человек в крестьянстве родился, а жизнь-судьба на пароходы его погнала, бурлачить. Тоскует такой человек, о родных местах думает, а ночью сны видит смешанные. Лошадь с трубой ему кажется, на плотах маки цветут красные.
— Верно, тять! Мне всю жизнь море синее снится. Не успею глаза закрыть, волны набегом бегут и через меня перекатываются. Беляков расчихвостим, власть трудового народа установится, я на флот махну. Любо-дорого! И ты ко мне на корабель переедешь.
У каждого свое море, думал Никифор, кому синее море снится, кому зеленое, но Семену не перечил, от корабля не отказывался. Пусть радуется парень, радость — она травам помощница.
— Контра-то спит, тять? Али планы строит, как сбежать отселя?
— Кашлял он, Сеня.
— И чего ты с беляком етим связался! Поставил бы к стенке. И точка! Вылечусь вот, первым делом твоего господина лесничего в архангелы произведу.
— Не болтай неразумное! — закричал на него Никифор. — Пустомеля! Разве можно такое говорить при живом человеке?
Ругал он Семена, а сам на нары поглядывал — не дай бог, Юлий Васильевич в разговор их ввяжется, сгоряча еще правду скажет и на раз переломит парня.