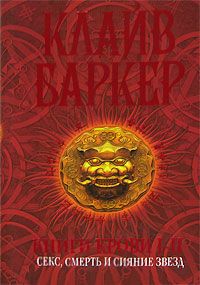4
Чехи обычно возвращались в казармы в семь часов вечера, уже затемно. Шеренги маршировали по главной улице Сааргемюнде и пели чешские песни. На тротуарах, вдоль всей улицы, стояли жители города, лотарингцы, разговорчивые французы, темноволосые гибкие француженки и слушали. Иногда ефрейтор Гиль запрещал петь, но французы не расходились и громко восклицали по-немецки: «Ein Lied, ein Lied!»[9] Просить по-французски они не осмеливались даже в темноте.
Чехи шли устало, неся на плечах, в бумажных мешках от цемента, большие черные брикеты, украденные на стройке у канала. Брикетами хорошо было топить в казармах.
— Если бы Гиль выдавал нам по десять брикетов на комнату, а не по три, — ворчал Кованда, сгибаясь под тяжестью мешка, — мы бы не обкрадывали Рамке и его фирму. Сами себе приносят убыток!
— А какие переходы — шестнадцать километров ежедневно! — пожаловался Пепик.
— Но главное — что за жратва! — сердито отозвался Мирек и сплюнул в темноте. — Она всех нас угробит.
Когда команда подходила к мосту через реку, завыли сирены. Воздушная тревога! Вот так всякий раз, еще по пути! Усталая команда равнодушно продолжала поход. Город еще ни разу не подвергся бомбежке: в то время иногда бомбили города Рура, а лотарингцы в юго-западном углу Германии отделывались лишь испугом.
Как только загудели сирены, во всем городе выключили свет. Словно бургомистр повернул громадный выключатель, и во всех домиках за тщательно занавешенными окнами сразу стало темно. Жители, спешившие в подвал, могли не тревожиться о том, что они, быть может, плохо занавесили свои окна, и свет виден с самолетов, которые иногда показывались над городом. Возможно, бургомистр выключал свет потому, что не верил своим согражданам. Ведь это лотарингцы, а они, — хоть и говорили в общественных местах по-немецки и даже носили значки со свастикой, — за работой и наедине напевали игривые французские песенки, а на окраинах города судачили на своем тарабарском языке. Возможно, господин бургомистр всерьез опасался, что его сограждане могут оставить окна незатемненными и не потушить света. А может быть, и сам он, исполняя служебный долг, напевал при этом французскую песенку или смачно ругался по-французски, хотя на отвороте его сюртука красовался золотой значок свастики.
Когда сирены объявили отбой, команда чехов подходила к своей казарме.
Бывшие полицейские казармы помещались почти за городом, в конце улицы, одна сторона которой располагалась на отлогом косогоре. Когда-то это был просто четырехэтажный жилой дом, в двухкомнатных квартирах которого впоследствии разместились полицейские; в маленьких комнатах помещалось по четыре, максимум по шесть человек. До приезда чешской команды в Сааргемюнде здание пустовало. На обширном дворе, окруженном высокой каменной стеной, стояли деревянные бараки для военнопленных. Их лагерь был дополнительно огорожен колючей проволокой, посередине на высоких сваях торчала сторожевая вышка с сильным прожектором и пулеметом. Когда команда чехов входила во двор, прожектор уставил на них свой сверкающий глаз и испытующе пошарил по шеренгам. Ослепленный его лучом, Гиль заслонил одной рукой глаза, погрозил кулаком часовому на вышке и крепко выругался. Прожектор погас.
В комнатах, аккуратно прибранных еще с утра, ребята прежде всего затопили круглые печурки, потом пошли умываться. В умывалку явился всемогущий Гиль, стал, широко расставив ноги, и ткнул перед собой пальцем.
— Kofanda und Kowarik, Essen holen, aber schnell, los, los![10]
Кованда и Олин надели куртки.
— Ей-богу, — сказал Кованда, — я этому горлопану, когда-нибудь сверну шею. И чего ему так полюбилась наша комната? Еще не было случая, чтобы он послал за едой кого-нибудь из соседей.
Во дворе они вытащили из сарайчика тележку, чисто вымыли большие жестяные термосы и направились к воротам. Прожектор поймал их своим лучом и не выпускал, пока они не вышли за ворота, хотя Кованда делал в сторону вышки неприличные жесты.
Выдачу еды фельдфебель Бент считал делом особой важности. Когда Кованда и Олин через полчаса вернулись из кухни и вынесли термосы с едой на площадку, второго этажа, команда выстроилась на лестнице вплоть до самого верха.
— Jeder Mann auf einer Stufe[11], — покрикивал Гиль, проверяя, точно ли на каждой ступеньке стоит по одному человеку. Потом он отправился с рапортом к фельдфебелю. Бент пришел, сопровождаемый старшим ефрейтором Вейсом, и скомандовал «вольно». Гиль открыл термос, принес из комнаты стол и подал Бенту поварешку. Люди молча становились перед фельдфебелем, и он отмерял каждому порцию луковой подливки, а левой рукой отсчитывал восемь картофелин в мундире. Гиль разрезал продолговатые буханки ржаного хлеба на пять частей, а пачку маргарина на десять; каждый чех получал порцию хлеба, порцию маргарина и ложку свекольного повидла, которое кривогубый ефрейтор Вейс прилеплял на крышку котелка.
— Что, худо нам живется? — разглагольствовал Мирек, вернувшись в свою комнату; он жадно ел нечищеную картошку и черпал из котелка подливку, в которую накрошил всю свою завтрашнюю порцию хлеба. — Хорошее дело — жить организованно, на военный манер: работой ты обеспечен, жратву тебе подают под самый нос.
В комнате стояли три двухъярусные койки на шесть человек. Мирек и Кованда, Олин и Пепик сидели на низких табуретках около небольшого стола. На нижней койке расположились Карел и Гонзик.
Гонзик был гибкий худощавый парень с беспокойными черными глазами и непокорной гривой темных волос, которые вечно спадали на его угреватое с рябинкой лицо. Руки у Гонзика были тонкие, почти девические, пальцы длинные, изящные, очень подвижные, словно источавшие беспокойство. Спокойствие эти руки обретали, только прикасаясь к черно-белым клавишам рояля. Тогда руки становились уверенными, дисциплинированными, а глаза Гонзика загорались ясным огнем, и от этого его почти некрасивое лицо хорошело, он весь менялся, ничего не оставалось от вечно торопливого и взбудораженного юноши.
Гонзик очистил четыре картофелины, кинул их в котелок, размял ложкой и перемешал с подливкой.
— В нашей республике были люди, которые порадовались бы и такому обеду, — заметил он.
Пепик перестал жевать и строго взглянул на него сквозь очки.
— Хватит трепаться! Теперь каждый норовит охаять республику. Разве у нас люди голодали? Я не слышал ничего подобного.
Но Кованда подтвердил, что да, голодали; он был деревенский житель и сам видел, как сборщики налогов ходили по домам и забирали свиней и коров, продавали с молотка усадьбы.
— Что вы знаете о нужде, ребята! — вмешался Карел (он вырос в шахтерской семье). — Видели бы вы, как нам жилось, когда начали увольнять рабочих. Я тогда еще мальчишкой был. Жрать стало совсем нечего. Семья у нас — восемь человек.
Пепика злили эти разговоры. Что-то побуждало его ожесточенно защищать старые времена, которые, по сравнению с нынешними, казались ему золотым веком. Но Карел говорил спокойно и просто, и от этого Пепик растерялся.
— Ты-то что знаешь? — спросил его Карел. — Ты ходил в школу, мама тебе мазала хлеб маслом и два раза в неделю подавала чистую рубашку. Твой отец железнодорожник, худо ли, хорошо ли, он первого числа приносил домой жалованье. Вы, студенты, не пережили забастовки, не видели газет с цензурной плешью сверху донизу. Я и сам кое-что помню, а мой отец мог бы порассказать много больше. Да и мать тоже.
Миреку надоело слушать, как они поносят старые добрые времена.
— Брось ты это! Вы все изображаете хуже, чем было на самом деле. Большинство у нас жило вполне сносно. Голодающих я в жизни не видывал.
— А безработные? А нищие?
Мирек смущенно откашлялся.
— Безработные и нищие были всюду, — нахмурясь, сказал он, вытирая котелок хлебной коркой. — Но безработица длилась недолго.
Гонзик медленно и сосредоточенно ел, уставившись на свой котелок и задумчиво улыбаясь. Потом он взял со стола четыре свои нечищеные картофелины, сунул их в карман куртки и быстро оглядел лица товарищей — заметили ребята или нет?
Все заметил Олин, хотя он и делал вид, что занят только едой. Он обратил внимание и на то, что Кованда передвинул по столу еще три картофелины, и они исчезли в кармане Гонзика.
— Вот что худо, — начал старый Кованда и потер рукой щетину на подбородке. — Ни черта вы не знаете, как живется в гнезде, откуда вылетели на свет. Вы и не обнюхались как следует в жизни, все верили тому, чему вас учили в школе. Чего же вы удивляетесь на этих коричневых сопляков в Германии, у которых еще молоко на губах не обсохло, а они уже забавляются кинжалами да пистолетами? Сами-то вы, как и они, не видите дальше своего носа. Чему вы научились, что узнали?, О чем заботились, кроме того как бы получше провести свои молодые годы? Кое-кому из вас жилось хорошо, на этот счет Мирек прав. И даже многим, но нас, бедняков, тоже было немало — не десяток и даже не сотня тысяч. А жилось нам так, что не разжиреешь, даже если есть работа. Черта лысого вы знаете, как нам приходилось работать, что было на бумаге и что в жизни.