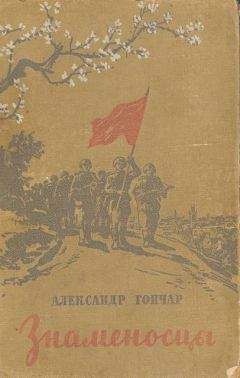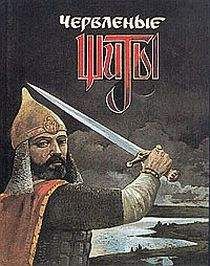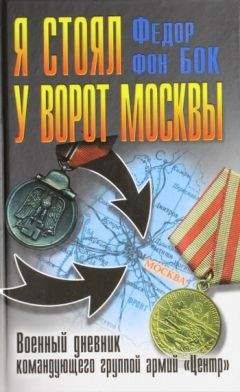И все же Черныш чувствовал, что он достиг сегодня чего-то необычайного, что-то очень важное произошло в его жизни. Завтра утром он уже не будет итти по дороге с ясными указками, утоляя жажду студеной водой из зеленых криниц. Отныне перед ним встала каменная стена, и он уперся в нее. Дороги сомкнулись и никуда не поведут до тех пор, пока он сам не пробьет эту стену, чтобы свернутые дороги расправились, как пружины, и устремились вперед с указками для других.
— Вы не спите? — спросил телефонист.
— А?
— Да… говорю, девчата надоели звонят и звонят…
— Чего им надо?
— Гвардии старшего лейтенанта. И все не наши позывные: какая-то Березка, какая-то Фиалка.
— Так разбуди его.
— Нельзя. Старший лейтенант приказал отвечать фиалкам, что его нет.
Утром Шовкун, ординарец Брянского, вносит котелок, ложки, расстилает полотенце и режет на нем хлеб.
— Что там? — поднимается взлохмаченный Сагайда, чтоб заглянуть в котелок. — Опять гвардии горох! Здоров будь, давно виделись!.. Шовкун!
— Я вас слушаю.
— Я знаю, как ты меня слушаешь! Водка есть?
— Сегодня не давали.
Сагайда глубоко вздыхает.
— Так вот знай, Шовкун, — говорит он, вздохнув, — твоя Килина взяла к себе в хату мужика. Милиционера!
Сагайда внимательно следит за тем, какое впечатление окажут его слова на ординарца. Всегда после такой жестокой шутки пожилой боец начинает моргать, как ребенок, глаза его обволакиваются мягкой влагой, и весь он тоже как-то обмякает, смущенно улыбаясь.
— Что вы, товарищ гвардии лейтенант… Не может этого быть… У нас и милиции нет поблизости. Она вся в Гайсине.
Сагайда думает.
— Все равно, связалась с бригадиром, — говорит он. — Бригадир привез ей соломы, а она уже тут вся перед ним — и так, и сяк.
— Довольно тебе, — морщась, останавливает его Брянский.
Садятся есть. Шовкун стоит у двери, и кажется, что его совсем нет в землянке. Он обладает удивительной способностью — исчезать на глазах, становиться совсем незаметным и никогда никому не мешать. Но стоит Брянскому хотя бы спросонок позвать его, как Шовкун сразу же тихо откликается: «Я вас слушаю».
Сагайда ест, чавкая. После еды ему хочется закурить. Но он знает, что у всех в батальоне уши пухнут без табаку.
— Ты не куришь? — спрашивает он Черныша.
— Нет.
— И не пьешь?
— Нет.
— И дивчат не целуешь?
Черныш краснеет А Сагайда начинает жаловаться на Румынию. Нищенская, несчастная страна! Хаты без дымоходов, потому что каждый дымоход Антонеску облагает налогом. Табак не сеют, потому что это государственная монополия. Все наши окурки пособирали на дорогах, а говорят — Европа!
Брянский тоже страдает без курева, но стоически переносит свои муки. Шовкун легким движением собрал посуду, перемыл, перетер и, хотя сам он поворачивался медленно, однако работа в его руках делалась как-то сама собой быстро и ладно. Уже он все сделал и снова, переминаясь с ноги на ногу, поглядывал на старшего лейтенанта, которого, видимо, обожал.
— Да, хоть бы раз потянуть, — жалуется, наконец, Брянский.
— Товарищ гвардии старший лейтенант, — обрадовавшись, отозвался Шовкун своим проникновенным голосом. — У меня немножко есть… В конверте прислала…
— Килина? — кричит Сагайда. — Так чего же ты молчишь? Давай скорее!
Закурили.
— Шовкун! — зовет Сагайда, жадно затягиваясь. — Разве это табак? Какая-то мерзость!
— То я немного буркуна подмешал, — оправдывается Шовкун. — Наши хлопцы все буркун курят. Он ароматный. А румыны много его развели на своих полях.
— Тоска, — говорит Сагайда. — Ненавижу эти обороны. Копай и копай без конца. Святое дело наступление. Я только тогда и чувствую, что живу, когда наступаем. Черныш!
— В чем дело?
— Дай мне адрес какой-нибудь учительницы или агрономши.
Черныш удивляется:
— Для чего?
— Напишу ей письмо.
Это у Сагайды мания. Он пишет много, куда попало и кому попало, с одной целью — получить фотографию. Если он достигает своего, то несколько дней ходит, хвастаясь, показывает каждому фотографию девушки, которую никогда не видел и никогда не увидит. Он сам ее расхваливает на все лады, а потом вдруг заявляет мрачнея:
— Но я знаю, — это она, такая-сякая, не свою прислала.
— Почему не свою?
— Потому что сама она конопатая.
— Ты ж ее не видел.
— Все равно — конопатая!!!
Тогда его лучше не трогать. Он сердито спрячет фотографию в свой бумажник и замолчит.
Чернышу все это кажется шутовством.
— Я не понимаю, — говорит он, — как можно писать человеку, которого совсем не знаешь?
— А что мне, по-твоему, делать? — кричит Сагайда. — Скажи, что мне делать? Хорошо, что у тебя есть там какая-то узбечка, какая-то селям-алейкум, которая ждет тебя и, собирая хлопок, распевает «Темную ночь».
— Каждого кто-нибудь ждет.
— Каждого! Меня никакой чорт не ждет!
— А дома?
Лицо Сагайды кривится в злой гримасе, а губы начинают мелко дрожать.
— Мой дом, брат… ветер развеял!
И он рассказывает свою историю, давно уже известную всему полку.
— Ты, наверное, не знаешь, что наша дивизия носит имя моего родного города? Да, да, Красноград — это мой родной город, мне выпало счастье освобождать его собственными руками. Тому уже скоро год, — правда, Брянский?
— Через месяц — как раз год.
— Под вечер завязался бой, — с этого всегда Сагайда начинал свою историю, — а в полночь мы уже вступили в город, немцы за Днепр драпали. Вошли мы — все трещит, горит, валится. Отпросился я в ту ночь у Брянского… Лучше б ты меня не отпускал, Юрий!.. Иду городом, наших бойцов мало, гражданских совсем никого, муторно, а улица вся горит… И узнаю ее, и узнать не могу, и родная она мне, и уже какая-то чужая, страшная. Я никогда не видел такой жуткой багровой ночи!.. Свернул к заводу, стены разрушены, над цехами свисает покареженная арматура, а внизу под ней висят авиабомбы, как черные свиньи. Не успели их немцы взорвать. Летний театр в парке догорает, каждое дерево освещено, каждую ветку видно. А ведь там я когда-то… и сидел, и обнимал… Чорта с два! Прихожу на окраину, на месте нашего дома — груда кирпича и пепла, вот и все мое счастье, брат! Поискал, нашел все-таки в одном погребе знакомых соседей — посгибались, трясутся, узнать меня не могут. Долго убеждал их, что я действительно Володька Сагайда, тот, от которого все заборы трещали. «Как ты возмужал! (то-есть постарел!)». «Как ты изменился!» — «Где мои?» — спрашиваю. Отец, говорят, еще зимой сорок первого подался куда-то на село с тачкой за хлебом и там где-то умер или по дороге снегами занесло. А сестру в Германию увезли. Писала, говорят, из Гамбурга, еще когда была там на бирже. «А где ж, спрашиваю, Лиля?» Была такая соседка, лаборанткой на заводе работала. «Замуж вышла». — «Как вышла?» — «Так… Повенчалась и выехала куда-то…»
Некоторое время все сидели задумавшись. Потом вдруг Сагайда вскинул голову, отбросил чуб назад.
— Ладно! За все расквитаемся. Еще заплачешь ты, неметчина, горькими слезами. Все тут перетопчем!
— Мы не дикие кони, чтобы все топтать, — с неожиданной резкостью вмешался Брянский. — Мы самая передовая армия в мире. Такими нас и ждут.
— Знаю, знаю, ты сразу начинаешь подводить базу, — нервно отмахнулся Сагайда и снова обратился к Чернышу. — Так даешь адрес?
— Но подумай, Сагайда, в такой переписке не может быть ничего настоящего, серьезного, глубокого, — стоял на своем Черныш. — Писать неведомо кому… Нет, тут есть что-то нехорошее… Даже грязное.
— Грязное! — свирепо вскочил Сагайда. — Что значит — грязное? Как ты это понимаешь? У солдата много чего грязного! У него грязные руки, грязные ноги, портянки воняют по́том! Нередко ему приходится делать работу, которая кажется грязной!
— Выдумки, — говорит Брянский.
— Не выдумки! Смотри правде в глаза, Юрий! Да не в этом дело. По-моему, настоящий патриот как раз тот, кто способен в интересах Родины выполнять не только чистенькие, а всякие и так называемые грязные работы! Иначе, кому ж она их поручит? Или вызывать с Марса людей для таких спецзаданий, чтоб, видите ли, совесть ее «чистеньких» патриотов оставалась незапятнанной? Солдат должен все мочь и… все преодолеть! Скажи, Шовкун?
Шовкун, который как раз чистил в углу автомат, видимо, не понял, о чем шла речь.
— Скажи, правду я говорю?
Боец боялся Сагайды и потому, взглянув на Брянского — не сердится ли тот, наконец сказал:
— А как же… слушаюсь.
Однако это не помешало остроумному Шовкуну вечером смеяться над Сагайдой в кругу земляков.
Вечера в роте, если солдаты не уходят рыть траншеи и носить шпалы, проходят в долгих задушевных разговорах.