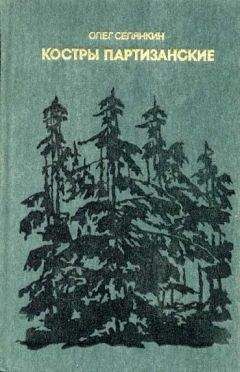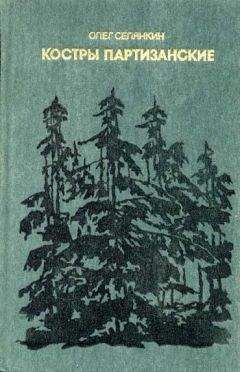— И приняла наша рота бой с ними, — вздохнул Спиридон Агафонцев, вытирая пальцы о шаровары. — Конечно, смяли они нас. — И торопливо добавил: — У них-то почти дивизия была, да еще с танками, а нас всего-то ничего, рота минометчиков!.. А меня контузило… У них в плену очухался.
Страшную правду обрушил на Григория этот солдат. Настолько страшную, что Григорий только и спросил:
— Как, говоришь, фамилия того лейтенанта? Что фашистов распознал?
— Бабко. Другие командиры его вроде бы Сашкой кликали… Я-то дня за три до этого к ним пришел. С пополнением…
Григорий никогда не был силен в истории и географии. Он и сейчас, если бы его кто-то экзаменовать стал, только и сказал бы, что Волга — она в самой сердцевине России течет, а Сталинград раньше Царицыном назывался, сам Стенька Разин гулял под стенами этого города, а в гражданскую войну здесь беляков сокрушили; и еще — здесь в годы одной из пятилеток заводище тракторный отгрохали. Назло всем империалистам и капиталистам взяли да отгрохали!
Очень мало знал Григорий о Волге и Сталинграде, но разволновался, услышав рассказ солдата. Думы о том, что сейчас творилось там, на берегу Волги и в улицах Сталинграда, были настолько тревожными, что Григорий как-то не придал значения тому, что староста деревни, с которым он так и не кончил разговора, вдруг обнаружился среди партизан, что-то объяснял им, похоже, даже указания давал. Окончательно пришел в себя Григорий только в лесу, вдруг увидев, что за отрядом ползут не две, а четыре подводы, груженные мешками с картошкой. Спросил у Мыколы, оказавшегося рядом:
— Эти-то откуда взялись?
— Никитич надоумил! — радостно ответил тот. — Говорит, разве вам надолго хватит того, что с моего огорода взяли? Берите и у соседа — полицая! И подводы он же мобилизовал, — уже менее радостно закончил Мыкола, заметив, что командир насупился.
Что Никитич — староста деревни, это Григорий понял сразу. Однако невольно полезло в голову: чем вызвана, чем продиктована эта заботливость пана старосты? Искренним желанием помочь? Радостью, что еще дешево отделался, жив остался, хотя запросто мог оказаться и на дерево вздернутым? Или тем, что от четырех груженых подвод вон какая колея остается?
— Да вы, товарищ командир, не думайте чего плохого: Никитич мне успел шепнуть, что он сюда для специальной работы нашими сунут, — снова затрещал Мыкола.
Чтобы Василии Иванович или он, Григорий, да признался в, таком первому встречному?!
Остановив отряд, Григорий разделил его на четыре группы — по числу подвод. Каждая из них дальше своим кружным путем пошла к лагерю. А Виктор, Афоня и Григорий в том месте, где колея распалась, крестом на сырую землю легла, поставили пять противопехотных мин — все, что обнаружилось в заплечном мешке запасливого Афони.
Слова не проронили, пока минировали. Даже смотреть друг на друга избегали.
3
Стрельбу Василий Иванович услышал сразу. Мысленно даже отметил, что особенно буйствуют фашистские автоматы. Стрельбу слышал, а вот открыть глаза, оторвать голову от подушки — не мог: так измотался за последние дни. Зато, когда Нюська ворвалась в его комнату, сразу и проснулся и даже заметил, что она с перепугу в одной ночной сорочке к нему прибежала.
Проснувшись окончательно, он быстро оделся, схватил автомат, висевший в изголовье, и побежал из дома, еще решая, что ему надлежит сделать; он просто бежал к комендатуре, зная, что там фон Зигель, который и отдаст соответствующие приказания. Или даже несколько, исключающих друг друга.
Не успел пробежать и половины пути, как чуть не столкнулся с Генкой. Тот и доложил голосом, прерывающимся то ли от волнения, то ли от быстрого бега:
— Партизанский налет! Приказано занять оборону согласно плану!
Василий Иванович побежал к бункеру — главному опорному пункту на южной окраине Степанкова. Влетел в него, просунул автомат в амбразуру и… простоял так, не сделав ни одного выстрела за все то время, пока гремела перестрелка. А она оборвалась перед самым рассветом. Со стороны нападающих оборвалась. Немного погодя прекратили огонь полицаи и солдаты вермахта. Но до тех пор, пока солнце не поднялось над черным лесом, пока туман, скопившийся в низине, не загустел, не полез вверх тучей с темной серединой, ни один из них не покинул своего места: не верили, что партизаны отошли по-настоящему, оставив только торчащую стоймя столешницу, на которой углем было нацарапано: «Все равно повыпускаем из вас кишки!»
Убедившись, что партизаны действительно ушли, Генка первым покинул бункер, подошел к столешнице и, вызвав хохот остальных, демонстративно помочился на эту надпись.
Все — и солдаты вермахта, и полицаи — все были довольны результатами ночного боя. Только о том, как врезали партизанам, и говорили. Казалось, один Василий Иванович хмурился. Еще ночью, когда партизаны свои действия почему-то ограничили лишь пальбой, в его душу закралось сомнение в реальности всего происходящего. Теперь, когда стало известно и то, что они сами обнаружили себя, издали открыв огонь по бункеру, и вовсе окрепла мысль, что этот «партизанский налет» — инсценировка. Причем бездарно сработанная.
Но зачем и кому она понадобилась?
Зайдя домой, чтобы умыться и перекусить, он сказал Нюське:
— Понимаешь, очень странно все это: только пальба в ночь вместо активных действий! Наконец — а где убитые? Раненые? Допустим, они унесли своих. Но ведь у нас-то ни одного даже не царапнуло!
Нюська уже давно и на все смотрела глазами Василия Ивановича, поэтому и сейчас только кивала согласно. А он продолжал развивать свою мысль:
— Главное же — ни одной ракеты мы в небо не выпустили! Каждую ночь черт знает сколько их сжигаем, а в эту, когда вроде бы враг наступал, ни одной! О чем это говорит?
— Выходит, не хотели, чтобы кто-то увидел тех, которые наступали, — в самую точку ударила Нюська.
— А о чем это свидетельствует? — окончательно восторжествовал Василий Иванович и сразу же заторопился: — Ну, я побегу в свою берлогу: чует мое сердце, что Зигель вот-вот нас увидеть захочет!
Действительно, не успел он до конца дослушать восторженный доклад пана Золотаря о поведении полицаев минувшей ночью, как сообщили, что их обоих требует к себе господин комендант.
Фон Зигель принял их в своем кабинете, где к тому времени уже собрались все офицеры комендатуры. Начал он свою речь с того, что очень выспренно не сказал, а почти прокричал о победах вермахта под Сталинградом, о том, что сейчас ни один пароход уже не пройдет по Волге, если на то не будет разрешения фюрера, что еще буквально несколько дней — и этот огромный город, за который так цепляются советские солдаты, окажется полностью в руках верных сынов Германии. Потом, только переведя дыхание, с не меньшим жаром сообщил и о том, что народ Белоруссии с восторгом воспринял новый порядок и все прочее, предложенное ему. Но!.. Но, как говорится в одной русской пословице, в семье не без урода. Это они, моральные уроды, подлежащие безжалостному уничтожению, и пытаются сеять недовольство и смуту, не останавливаются даже перед убийством как солдат фюрера, так и лучших сынов белорусского народа. Они, эти моральные уроды, настолько обнаглели, что минувшей ночью осмелились напасть на Степанково! Что вышло из этой авантюры — об этом он говорить не будет: все, присутствующие здесь, были участниками недавнего ночного боя, достойно вели себя на всех его этапах.
— Прошу, господа, мою похвалу довести до сведения нижних чинов, к которым у меня тоже нет претензий. — И, помолчав, так закончил свою речь: — Чтобы напрочь исключить возможность повторения чего-то подобного, я обратился к командованию с просьбой расквартировать в нашем районе батальон специального назначения. Сообщаю вам об этом исключительно для того, чтобы появление здесь наших героев не застало вас врасплох.
Сказал это и кивком отпустил всех, кроме Василия Ивановича; жестом приказал ему задержаться.
— Говорят, вы так яростно вели огонь, что ваш автомат обжигал руки? — спросил фон Зигель вроде бы шутливо, но глаза его прожигали холодом.
— Вас, господин гауптман, неправильно информировали, я ни одного выстрела не сделал, — ответил Василий Иванович, как всегда, глядя точно в зрачки фон Зигеля.
— Вы не сделали ни одного выстрела? Почему?
— Боялся в полной темноте в кого-нибудь из своих попасть.
— У вас есть кто-то свой среди партизан?
Еще первая фраза этого разговора открыла Василию Ивановичу главное — за ним кто-то следил. Может быть, пан Золотарь. Однако нельзя забывать и Генку. Скорее всего — именно кто-то из них: больше никого этой ночью рядом не было. Конечно, кое-кто и подбегал на минуту, другую, но эти двое все время торчали рядом. Значит, опровергать обвинение Зигеля — себе вредить. Потому сразу же и честно ответил на его вопрос. Потому и сейчас решил говорить только правду: