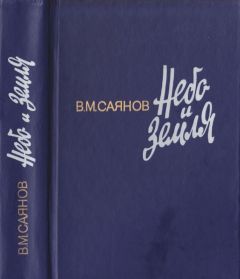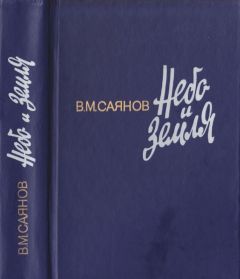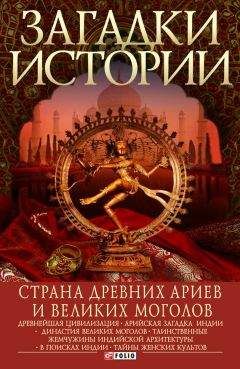Лицо, на которое он только что смотрел с обожанием, казалось ему теперь чужим и жестоким. Он ненавидел Элени. Ему нужна была сейчас только его мать, ласковая, отзывчивая.
Девушка в старом залатанном жакете и стоптанных полуботинках представлялась ему бездушной, не способной почувствовать бесконечные радости жизни, затвердившей лишь свои сухие инструкции: «Первое… второе…» Он отшатнулся от нее, прижался к посудной полке.
А у них оставалось так мало времени! Элени постояла в нерешительности, потом, подойдя к Георгосу, схватила его руку и приложила к своему сердцу.
— Тебе тоже страшно? — пораженный, воскликнул он.
— Да, — прошептала она.
Это было нечто большее, чем помощь. Георгос крепко обнял Элени.
Сарантис приподнялся немного, сжимая в руке гранату. Враг окружил их плотным кольцом. Он слышал голоса, смех солдат, звук их шагов. Чего же они медлят? Видно, ждут команды перейти в атаку.
Сарантис знал, что им, пятерым, не выстоять под огнем даже несколько минут. Они сейчас ничем не отличались от осужденных на смерть, выстроенных перед карательным отрядом.
У Сарантиса был недурной голос, и он любил петь. Обняв Элени за плечи, он затянул песню. Самое трудное было начать, а потом слова полились сами собой:
Мы твои дети, Эллада…
Голос Сарантиса разорвал зловещую тишину. Четверо его товарищей, встрепенувшись, тут же присоединились к нему.
Мелодичная и тихая вначале песня звучала все громче и громче. Казалось, она стремилась пролететь над всем огромным городом. Глаза Тимиоса наполнились слезами. Он посмотрел на товарищей: все они, даже Сарантис, плакали.
Увлеченные пением, звуком собственного голоса, они избавились от преследовавших их мыслей и образов, которые каждую минуту ожидания превращали в пытку. Они не желали расстаться с этой песней, как мать со своим мертвым ребенком, которого гробовщики готовы опустить в могилу.
Дыхание у них стало глубоким, ровным. Они почувствовали себя внезапно во власти каких-то странных чар.
Песня увлекала их, преображала их лица. Она разливалась по всему омытому солнцем кварталу. Пятеро людей, обреченных на смерть, встретили свой последний час, сбросив с себя тяжкий груз мелких личных забот и бед, который каждый из них влачил с самого детства. Слились воедино их дыхание, голоса, вера в общее дело.
Вдруг со всех сторон по домику, увитому плющом, открылась яростная пальба.
Тонио перестал нежиться на солнышке. Отвлекся от воспоминаний. Он повернул голову к солдатам и приказал установить пулемет на террасе соседнего дома.
— Живей! — завопил он своим тоненьким голосом.
Немцев призывали теперь в армию из запаса, и они не отличались ни молодостью, ни проворством. Тяжело дыша, втаскивали они по лестнице пулемет. Молодые немцы, ровесники старшего брата Тонио, плясавшие на праздниках в ярких национальных костюмах, пропали без вести в русских степях. Тонио мальчишкой с интересом смотрел на их танцы и краснел от смущения, когда какая-нибудь девушка, едва переводя дух после бешеной пляски, трепала его по щеке.
Все они пропали бесследно.
Превыше всего для Тонио были интересы Германии, и он ненавидел ее врагов. Правда, в доброе мирное время он не понимал, какую опасность таят в себе нераспроданные боеприпасы, от которых ломились военные склады, радиоприемники, велосипеды, разные машины; на все эти чудеса техники он глядел разинув рот, когда приезжал с отцом в город. Ах, как хотел он заполучить велосипед с красным седлом! Но о благах цивилизации, насколько он знал, люди могли лишь мечтать. Откуда ему было знать тогда, что готовится новая война?
В школе его обучали истории и военным маршам, проповедовали патриотические идеи. Так же воспитывают своих детей англичане, французы и американцы. Но в буржуазных школах никогда ни слова не говорят ни о промышленных кризисах, ни о рынках сбыта, ни об интересах капиталистов. Учителя твердят без конца лишь о врагах отечества и жизненном пространстве. Поэтому Тонио был потрясен, когда его земляка Вильгаузена отправили в концентрационный лагерь.
Запасники, пыхтя, поднимались по лестнице.
Тонио стал отчитывать последними словами солдат, которые курили, спрятавшись в подворотне. Его круглая мальчишеская физиономия сердито передергивалась.
Солдаты, помявшись немного, вышли из подворотни.
— Сукин сын… Ишь раскричался, сволочь! — почесываясь, негромко выругался один из них.
Вдруг просвистела пуля, и Тонио, раненный в шею, вцепился руками в створки ворот. Это произошло так неожиданно, что застигнутый врасплох Тонио никак не мог поверить в случившееся.
Солдаты как ни в чем не бывало прошли мимо него и скрылись за поворотом.
Тонио попробовал закричать, но воздух, выходя из легких, свистел и шипел в раненой гортани. Взгляд его остановился случайно на ночной рубашонке и детских носочках, развешанных на веревке, и ему вдруг померещилось, что он вернулся в родную деревню. Старуха Фолькен собирается, наверно, белить свою конюшню, теперь ведь самое время…
Да, если бы не капиталисты с их рынками сбыта, Тонио в шляпе шел бы сейчас домой от старухи Фолькен по берегу озера, там, где он резвился в детстве. Но что поделаешь? Капиталисты прямо-таки ненасытны. После повышения цен каждая пуля дает полпфеннига чистой прибыли.
На фронте у него хватило бы, конечно, мужества умереть со словом «Германия» на устах… Но вот рубашонка на веревке раздулась от ветра, носочки стали раскачиваться, и Тонио вдруг показалось, что его мать в углу двора месит тесто.
— Хочу домой, в деревню, — прошептал он одними губами. — Отец меня ждет… Его трубка, колпак…
Больше ничего не успел он сказать.
Получив приказ занять дом, подгоняемые окриками и руганью капитана, солдаты, вооруженные автоматами и ручными гранатами, бросились из своих укрытий в атаку. По переулку они бежали, держась поближе к стенам домов.
В углу террасы торчал ствол пулемета, а установившие его там запасники, пригнувшись, притаились за перилами.
Сарантис оттянул зубами предохранительное кольцо гранаты и метнул ее, уже третью по счету, в соседний двор. Последовал взрыв.
— Кажется, попала в цель! — закричал Георгос.
Он хотел еще что-то добавить, но домик, увитый плющом, весь содрогнулся. Посуда разбилась вдребезги. Вазочка с вишневым вареньем, которое приберегали для гостей, покатилась по полу, чуть не задев по лицу Сарантиса.
Еще одна волна взрыва сотрясла дом.
К счастью, вторая вражеская граната попала в глухую стену. Конец курам, цветам в жестяных банках, курятнику, — все темным облаком взлетело на воздух.
Сарантис подполз к мраморной доске от комода. Несколько секунд он прислушивался, а потом указал Георгосу пальцем на ту часть ограды, откуда солдаты бросали гранаты.
Сарантис и Георгос не могли даже выглянуть из-за баррикады, потому что автоматы на соседней террасе не умолкали ни на минуту.
Бабушка Мосхула ощупью добралась до порога чуланчика. Она ухватилась рукой за засов, застучала в дверцу.
— Мимис! Мимис! — объятая страхом, звала она внука. — Мы погибли! Открой мне!
— Сиди там! Сиди там! — закричал Мимис.
Но он не успел повернуть голову, как пуля попала ему прямо в лицо. Он упал на спину. Но в пылу боя даже Элени, которая была ближе всех к Мимису, сразу не поняла, что он мертв.
Пулемет строчил, как новогодняя трещотка. В окно и носа нельзя было высунуть.
Георгос подполз к своему мертвому товарищу. Он задел его локтем по щеке, но в это время на крыше противоположного дома мелькнула солдатская пилотка, и он, даже не взглянув на Мимиса, прицелившись, выстрелил в нее.
Солдаты уже приближались к воротам их домика.
— Не прячьтесь, ребята! Бросайте гранаты! Бросайте! — заорал Сарантис.
Две ручные гранаты взорвались в переулке, подняв столб пыли. Солдаты ничком упали на землю. Капитан перестал ругаться. Запасники на террасе, пригнув головы, строчили из пулемета.
Бой приближался к концу.
В общей сумятице никто не слышал, как стонал на крыше дома, где жила Фани, молодой греческий солдат. Он лежал, прислонившись головой к трубе и судорожно вцепившись руками в живот. Тщетно пытался он остановить кровь, впитывавшуюся в его грязную рубаху.
Солдата звали Захариас.
Его вместе с большой группой крестьян привезли в Афины с юга Пелопоннеса. В такое бурное время разве поймешь, кто был виноват в их стычке с партизанами! Во всяком случае, в столице им сразу выдали автоматы, ножи, военную форму, напоили всех вином. Большинство из них напоминало не прирученных еще зверей. В полдень они с жадностью набрасывались на обед. А в свободное время сидели в тупом оцепенении и чего-то ждали. Чего же они ждали?