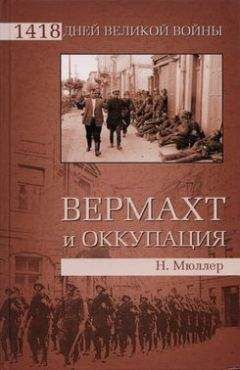— Ты смотри-ка! — приятно улыбнулась Лиза, когда в конце улицы увидела Пауля. — Бежит Павлуша! Молодец! Какой парень, хоть и немец!..
Так и встретила его с подковыркой:
— А я уже думала, что не придешь!
— О, не придешь! — глазам ее Шварц улыбнулся. — Нельзя «не придешь!»
И тут же, у ног ее, на половицах крыльца, развернул фартук с деталями новой рамы.
— Дак, может, сначала поел бы? Что ж ты, скорей за работу!
— Надо скорей, матка, скорей, — мельком глянул на нее, собирая раму. Она невольно залюбовалась движениями рук его в сухих мозолях. С сочувствием болезненным поморщилась на черный кровоподтек под ногтем большого пальца на левой руке…
Вот он раму собрал, вынул старую из проема и новую поставил. Закрепил. Обернулся к Лизе и с ее улыбкой встретился:
— Алес гут, матка.
— Да какая ж я тебе матка! Лиза я! Ли-за! Запомни!
— Йа, йа, Лиза, Лиза.
Потом он умывался под рукомойником во дворе, а она, с полотенцем в руке, стояла рядом и непроизвольно Пауля сравнивала с кем-то другим. Когда он умылся, и Лиза подала ему полотенце, он приятно удивился:
— О, гут…
— Теперь ты сияешь, как новый пятиалтынный, — пошутила она.
Пауль дословно не понял, что она сказала, но улыбнулся, входя за ней в дом.
Они сели за стол, и Лиза наполнила миски борщом.
— Давай-ка тяни, — пододвинула к Паулю с водкой стакан. Себе в половину кубарик наполнила. Они чокнулись. Выпили, и Пауль смачно крякнул, чем Лизу рассмешил:
— Ты, брат, пьешь и крякаешь, как русский мужик! Наши научили?
Пауль, хрустя огурцом, пожал плечами:
— Сама пришла!
— Сама пришла…
Все было вкусным на этом столе! Но особенно борщ на отваре грибном!
— Это ж свекровь, еще утром, сгоняла в сосонник и набрала масляток молоденьких. А я вот и сварила… А хлеб тебе нравится наш, деревенский? Нравится? Он желудевый. Дубовые желуди бабы в деревне вымачивают, еще прошлогодние, сушат да в ступах толкут. Потолкут, потолкут да просеют, и снова толкут. А потом добавляют вареную бульбу да трошки муки… Ай, да что это я! Тебе знать ни к чему, как наши бабы в деревнях мордуются, детей растят да стожильно ишачат в колхозе… А дети мои хлеб этот любят, за милую душу! Лучше всякого другого магазинного…
Лиза ела спокойно и обстоятельно, как подобает здоровой женщине, знающей цену пище насущной, не заботясь о том, все ли он понимает из того, что ему тут рассказывает.
Пауль борщом насыщался, глаз не поднимая от миски. Он только на Лизу мельком глянул, когда испарину пришлось смахнуть со лба. Взглянул и улыбнулся благодарно, принимаясь за грибы с картошкой.
— Гурки уродились сеголето, так что ешь, не стесняйся, — на огурцы указала она. — Свекровь мастерица солить что грибы, что гурки. Оно уже с роду ведется: как пошли огурцы урожаем, дак и грибов по лесам не собрать. Коси хоть косой! По бочке в погребе стоить и того и другого. Так что знай про закуску. Забегай. Гостем будешь…
— Гут, матка, гут. Ох, Лиза, Ли-за!
— Ну, то-то же… Давай доедай-ка все да беги в столовую свою на казенный харч.
— Не, — покрутил он головой. — Шабаш. Найн «доедай».
— Дак, может, выпьешь еще?
— Найн.
— Ну, не знаю тогда… Отдыхай.
— Надо бистро! Шнель, шнель. Надо бегать!
— Ну, беги, Павлуша, раз такое дело. Забегай когда…
И, смутившись, добавила:
— Детей в доме нет, как видишь: в пионерский лагерь отправила…
— Забегай зафтра, — указал он на крыльцо. — До сфиданя.
Заменив в доме рамы на новые и застеклив, Пауль со стройки принес белой краски и все новое в доме покрасил.
— Господи, в хате моей не помню, когда пахло краской! — улыбалась Лиза. — Где удалось раздобыть, Павлуша?
— Дибрил, — спокойно признался Пауль.
— Стибрил, значит… Украл. А что поделаешь, если краска такая не всегда в магазине бывает, когда все кругом строится.
Как-то, в настроении приподнятом, сбросив с ног колодки самодельные, Пауль заменял на крыльце половицы прогнившие и мотив «Катюши» без стеснения насвистывал, как проходившая мимо Лизина свекровь бросила ему с упреком горьким:
— Вот еенного мужа убил на войне, сыночка мого, дак теперь помогай, немецкая морда твоя! Помогай, помогай!..
Приблизительно Пауль понял, что именно старая женщина высказала, и молоток опустил на замахе. И на шляпку гвоздя загляделся, теряя приятный настрой.
А свекровь обратила внимание на ноги его в серых, сухих мозолях и в трещинах пятки:
— Во ноги как ухайдакал! Срам один. Господи милостивый, как мордуют людей! Может, и за грехи, дак годи уже, довольно…
Через пару минут она кинула Шварцу ботинки добротные:
— Обувай вот… Как там тебя?
— Пауль это, мам! — выбежала Лиза на крыльцо. — Ты ему ботинки Петины даешь, а ему ж нельзя носить наше. Русское им нельзя. Я уже давала, дак не берет. Ферботен, говорит.
— Йа, йа! Ферботен, ферботен, матка! — подхватил Шварц и головой покрутил. Было видно, что ему очень хотелось эти ботинки обуть. Неважно, что их когда-то носил Лизин муж, русский солдат, на войне убитый немцем каким-то. Пауль обул бы их с радостью, но есть запрет: плененный враг отбывать обязан наказание за преступления кровавые той армии, в которой был солдатом, и должен оставаться в той же форменной одежде, в какой он в Советскую землю вломился.
— Ну, дак хоть ему френч залатай, раз нельзя нашу обувь носить, — пробурчала свекровь недовольная. — И штаны на нем — латка на латке! Дак заштопай, ти что…
О! Майн либер Готт! Наконец-то немцев переодели! Вместо тряпья, что было когда-то формою вермахта, одели их в темно-синие комбинезоны. На голову — кепи такого же цвета. А вместо колодок тех самодельных, «на березовом ходу», — дали ботинки добротные с кожаным верхом.
И ежемесячно каждый теперь расписывался в ведомости денежной и знал, сколько советских рублей, заработанных созиданием, на его имя в сберкассу пойдет и сколько получит он на руки перед отъездом в свою Фатерланд.
Основное строительство в городе велось на промышленных объектах. И на каждом объекте теперь работали немцы.
И если раньше колонны унылых, не в ногу бредущих людей горожанам казались безликою массой, в которой каждый был неразличим, потому что потребности не было в этом, то теперь эти немцы воспринимались иначе.
На стройки являлись уже не просто гансы, фрицы, вальтеры, но Гансы, Фрицы, Вальтеры! Потому, что каждый стал необходим, как исполнитель работы специальной, входящей в общее дело.
И каждый немец стал заметен. В нем горожане человека разглядели. Теперь имя каждого немца зазвучало, хоть подчас и на русский манер.
И стали немцы улыбаться чаще. И возникла у них потребность русские слова запоминать и выражения, чтобы те, с кем работаешь, и тебя понимали.
С немцами в помощниках возрождалась промышленность города.
И только вздыбленные руины городских кварталов, как забытые могилы, все еще бурьянились и безжизненно молчали. Лишь иногда, разбуженные ветром, угрюмо гудели арматурой изувеченной да неуютными дождливыми ночами выли голосами бездомных собак и кошек. Было там сумно и пустынно.
Но вот на руины кварталов перебросили женщин. Наших, стожильных советских женщин! Всегда их бросали туда, где было все непосильное и неподъемное! Бросали безжалостно, как что-то чуждое всем, но живучее, не имеющее права в нечеловеческих условиях труда и быта погибнуть или сломаться, как способна ломаться очень ценная техника железная!
С молодым задором и творческой выдумкой, после обучения в училищах ФЗО, на стройки пришла молодежь.
И кварталы домов подниматься стали, вырастая из руин и пепла.
С пуском электростанции в дома и бараки пришло электричество.
Город строился в радостном темпе. На глазах у людей росли этажи. Увлеченный всеобщим подъемом, трудился каждый на месте своем, с терпением нужду переживая, как временную неурядицу, потому что мечтою желанной его будущее согревало.
Вальтера повысили в должности, и теперь его рота успешно строила бойлерную станцию и прокладывала нити инженерных коммуникаций.
Как-то к бойлерной на черной лошади и бричке черной подъехал Берман-герой. Немцы, как дети, проявили интерес к нему, будто век не видали камрада, хотя в лагере деться некуда друг от друга. Интерес этот вызван был тем, что Бермана переодели. На нем был темно-синий комбинезон и такого же цвета кепи, а на ногах добротные рабочие ботинки. И работал он теперь в ветеринарной лечебнице и был несказанно доволен. Одно было плохо: он не знал ничего о семье своей, затерявшейся в Гамбурге перед самым налетом англоязычников.
— Сейчас радио сказало, что в Венгрии на выборах победили коммунисты, — пришел с новостью бригадир монтажников Суровикин. — Скоро вся Европа будет нашей. Во дела! Туда-сюда, и вы домой поедете. Будете сами решать, какую Германию строить.