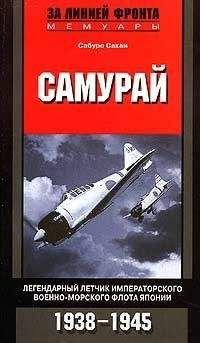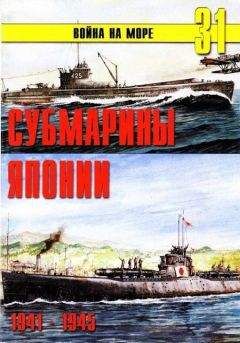Все делалось на скорую руку! Нам приказывали быстрее готовить людей, забыть обо всех тонкостях и учить их только тому, как летать и стрелять. Поодиночке, парами, тройками учебные самолеты болтались в воздухе и неуклюже шлепались на землю. Долгими утомительными часами я пытался сделать летчиков-истребителей из навязываемых нам людей. Это было невыполнимой задачей. Ресурсы были скудными, требования слишком высокими, а количество курсантов слишком большим.
Я чувствовал себя ненужным. Больше не оставалось сомнений, что наша страна попала в беду. Ни население, ни курсанты, ни отправляющиеся на фронт добровольцы не подозревали об этом. Но успевшие повоевать офицеры, читавшие секретные сводки, осознавали всю серьезность положения. Большинство, правда, продолжало свято верить, что Япония одержит победу в войне, но все реже и реже звучали восторженные возгласы и устраивались вечеринки по случаю побед.
Даже находясь в отдалении от полей сражений, я не мог не ощущать близость войны и боль, которую она несет. В сентябре 1943 года я испытал настоящий шок, узнав из очередного сообщения, что мой близкий друг, один из лучших летчиков Японии, пилот 1-го класса Кэндзи Окабэ был сбит в бою над Бугенвилем и погиб. Он был моим однокашником по летной школе, именно он установил так никем и не побитый рекорд, сбив за один день семь самолетов противника.
Неужели не будет конца смертям?
После сенсационной победы Окабэ в небе над Рабаулом адмирал Нинити Кусака, командующий 11-м флотом, обратился в Генеральный штаб в Токио с просьбой о награждении Окабэ медалью за его беспримерную доблесть. Но ничего не изменилось. Точно так же как и капитану Сайто год назад, Токио ответил отказом, обосновав его «отсутствием прецедентов». Но адмирал Кусака так легко не отступился. Раздраженный отказом, адмирал на специально устроенном по этому случаю торжестве наградил Окабэ своим церемониальным мечом.
Через три дня Окабэ встретил свою смерть в горящем истребителе.
В апреле 1944 года после долгих, изнурительных месяцев обучения летчиков в Омуре меня перевели в авиагруппу «Йокосука». До войны считалось почетным получить назначение в эту авиагруппу, так как она входила в состав Императорской гвардии и охраняла воздушные подступы к Токио. Теперь же это была всего лишь обычная группа. Дни, когда назначение туда считалось почетным, миновали.
Получив как офицер доступ к секретным сведениям, я имел возможность правильно оценить ход войны. Секретные документы разительно отличались от той околесицы, которую бубнили по радио ничего не подозревающим гражданам нашей страны. Повсюду на Тихом океане наши части были вынуждены отступать. Мощные американские оперативные соединения и флотилии кораблей, чьи размеры потрясали воображение, безраздельно господствовали на Тихом океане.
Я читал доклад за докладом, где говорилось о нанесении военно-морскими силами противника сокрушительных ударов. Значительно возросла мощь армейской авиации противника. Сотни «P-38» парили в небе вне пределов досягаемости наших истребителей, имея возможность вступать в бой по своему усмотрению. Новые модели истребителей и бомбардировщиков появлялись почти ежедневно, и рассказы наших летчиков об их значительно возросшем боевом потенциале не предвещали ничего хорошего в будущем. Мы все еще удерживали Рабаул, но этот когда-то мощный бастион больше не представлял угрозы для Порт-Морсби и других авиабаз противника. Рабаулу приходилось нелегко. Американцы выбрали его в качестве объекта для тренировочного бомбометания, испытывая поступающие на замену самолеты.
Вскоре после прибытия в Йокосуку я подал рапорт о предоставлении мне отпуска и отправился на поезде в Токио, находящийся всего в полутора часах езды. В семье дяди меня встретили словно вернувшегося домой родного сына. Теперь я знал, что, когда смогу на несколько часов покинуть базу, у меня есть «дом».
Вечером после ужина Хацуо стала шутливо бранить меня за то, что я до сих пор не женился. В ее полушутливом тоне сквозили серьезные нотки, и я принял ее игру.
– А почему ты сама, моя милая кузина, все еще одна? Как же так случилось, что ты до сих пор не выбрала себе хорошего мужа?
Дядя с тетей со смехом прервали наши взаимные упреки.
– Вы оба, – насмешливо произнес дядя, – слишком разборчивы!
Я улыбнулся:
– Не понимаю, почему Хацуо-сан не выбрала себе мужа. Посмотрите на нее. Красотой она не уступит кинозвезде. А много ли девушек сегодня могут похвастать тем, что имеют музыкальное образование? – Я снова улыбнулся. – Я не сомневаюсь, – глядя на Хацуо, произнес я, – что вы могли бы выбрать для нее прекрасного мужа.
Дядюшка с тетушкой рассмеялись, услышав мои рассуждения. Но Хацуо не смеялась, она бросила на меня взгляд и отвела глаза.
– Что с тобой, Хацуо-сан?
Она не ответила. Я встревожился, что чем-то обидел ее, и решил сменить тему беседы:
– Хацуо, сделай одолжение. Сыграй мне на пианино. Давненько я не слышал музыки в твоем исполнении.
Она вопросительно посмотрела на меня.
– Помнишь, когда я поступил в летную школу? Тогда ты мне играла… постой-ка… Да, вспомнил. Моцарта. Сыграй, пожалуйста, еще раз.
Вместо ответа, Хацуо подошла к пианино и села. Когда ее пальцы стали ласкать клавиши из слоновой кости, с трудом верилось, что где-то за тысячи миль отсюда на Тихом океане идет страшная война! Закрыв глаза, я видел перед собой голубые огни выхлопов истребителей и бомбардировщиков, выруливающих по взлетной полосе. Поднимая облака пыли, они с ревом отрываются от земли и исчезают в ночи, но многим из них не суждено вернуться.
А я сижу здесь, в пригороде Токио. Руки и ноги у меня на месте, расслабившись, я наслаждаюсь теплотой и добрым отношением людей, любящих меня, как родного сына. Воистину странен этот мир.
Музыка прекратилась. Хацуо на несколько секунд застыла у пианино, а затем как-то странно посмотрела на меня. В ее широко открытых глазах застыл немой вопрос. Она тихо произнесла:
– Сабуро-сан, я хочу сыграть еще одно произведение специально для тебя. Слушай внимательно. Музыка скажет тебе то, что я не могу выразить словами.
Мне показалось это странным. Она вдруг густо покраснела и быстро отвела взгляд.
Играла она долго. Льющиеся звуки музыки заполняли собой все пространство комнаты. Я смотрел на эту девушку. Я знал ее, но мне казалось, что я вижу ее впервые. Никогда я еще не видел Хацуо такой. Что она имела в виду, сказав: «Музыка скажет тебе то, что я не могу выразить словами»?
Я вдруг понял, что смотрю на Хацуо вовсе не как на юную девушку и свою кузину, а как на женщину! Я впервые по-настоящему увидел ее, обратил внимание, как сосредоточенно она склонилась над пианино, пытаясь излить с помощью музыки свою душу.
Хацуо! И я? От этой мысли мне стало не по себе. Но она уже не ребенок. Просыпайся, Сакаи, очнись, болван! Она – женщина. Сейчас, в этот самый момент она объясняется тебе в любви! Теперь я понял, что она хотела мне сказать. Нахлынувшие чувства чуть было не заставили меня ответить ей. Но этого не может быть, стал твердить я себе. Нет, так и есть. Это – Хацуо. И ты любишь ее, хотя и не догадывался о ее чувствах. Я вспомнил, как в госпитале она обняла меня и, рыдая, заверила, что я снова буду летать.
Оказывается, она полюбила меня, и полюбила так давно, что трудно себе представить. Мне было не по себе. В тот момент я понимал, что тоже влюблен. Влюблен в нее. Но что же мне делать? Как я страдал, когда слышал рыдания Фудзико после моего отказа. Но разве теперь у меня есть основания уступить? Почему я мог отвергнуть любовь Фудзико, ссылаясь на свою слепоту, а теперь готов ответить согласием на невысказанную словами мольбу Хацуо, обращенную ко мне?
Как я могу поступиться своей гордостью, отказаться от своих убеждений и притворяться, будто снова прекрасно вижу и способен стать тем асом, каким я был когда-то? Могу ли я пойти на это и при этом остаться самим собой? Нет!
Обращенное ко мне послание Хацуо пропало впустую. Я ни словом не обмолвился о том, что понял ее, и страстно хотел ответить. Когда Хацуо закончила играть, я оставался в комнате столько, сколько позволяли приличия, а затем, сославшись на усталость, ушел спать. Но уснуть я не мог несколько часов.
Во время службы в Йокосуке я часто посещал Токио. За полтора года моего отсутствия столица сильно изменилась. Красочность и веселье исчезли. Люди больше не смеялись. Улицы выглядели мрачными и безжизненными. Опустив голову, жители куда-то торопились по своим делам. Перестали звучать из громкоговорителей бравурные марши. Слишком многим сыновьям, мужьям и братьям этих людей было не суждено вернуться домой.
Но официальная пропаганда по-прежнему скрывала правду о войне, хотя победные крики уже утихли. С полок магазинов исчезли товары, действовала строгая карточная система. В холод люди на ветру выстаивали в очередях в ожидании чашки горячего супа. Страна пока еще не подвергалась ударам противника, исключением был лишь один рейд, произошедший еще в 1942 году, когда над городом пронеслись бомбардировщики Дулиттла и успели скрыться, направившись в Китай. Токио и другие крупные города оставались нетронутыми, им пока не был знаком свист и грохот разрывов американских бомб.