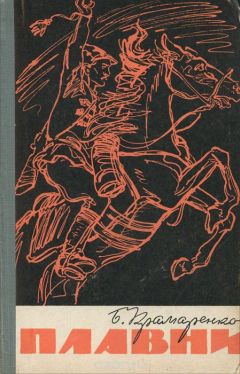— Хорошо, пускай сейчас же собирается. Через час после его отъезда высылайте второго гонца. Я напишу две записки.
Сухенко, бережно прижимая к груди раненую руку, вышел.
— Аркадий Львович, — сказал Дрофа, — а что вы думаете о неудаче Русской армии под Каховкой? Мне кажется…
— Что же вам кажется?
— Я думаю так: если большевики бросят на Юж–яый фронт все, что смогут снять с польского, и, кроме того, произведут дополнительную мобилизацию, — наши могут оказаться снова запертыми в Крыму.
— Нет, я не допускаю этого. Наша армия сейчас великолепно оснащена, части — отборные, солдаты и казаки не утомлены. На офицерско–юнкерские полки можно полагаться безоговорочно. Части же красных устали, выдохлись. Они вынуждены мобилизовать старшие возрасты, бородачей… А самое главное — ни Англия, ни Франция никогда не примирятся с таким положением, чтобы на одной шестой части земного шара правили большевики. В крайнем случае, барон Врангель пойдет на любые территориальные уступки Англии и Франции — и тогда они высадят в Крыму экспедиционный корпус.
— Давно это надо было сделать! — раздраженно проговорил Дрофа. — Лучше отдать и Донбасс, и бакинскую нефть, и даже больше этого, чем потерять все!
— Ну, щедро раздавать, пожалуй, не следует, да и нет в этом нужды, а вот на уступку англичанам Донбасса надо, по–моему, идти — и притом немедленно.
— А на какой срок они добиваются концессии на Донбасс?
— На девяносто девять лет.
— Ого! Это я понимаю! Вот так концессия!
— При условии передачи им Донбасса, они вводят туда свои войска…
— И надо отдать им Донбасс. Иначе не жить вам, ваше превосходительство, в атаманском дворце и не держать в руках булавы войска кубанского… А мне… Ведь у меня нет средств, и мне не с чем драпать за границу в случае провала!
— У вас слишком мрачные мысли сегодня, полковник. Я твердо убежден, что, несмотря на все наши временные неудачи, мы победим.
Маленькая серая птичка — камышовка — примостилась на молодой ветке дикого шиповника, росшего в глубокой балке, и с любопытством рассматривала неподвижно лежащего шагах в десяти молоденького казака в серой черкеске. Недалеко от него пасся по дну балки вороной белолобый конь.
Камышовка, заметив шулику, быстро порхнула в соседний терновый куст. Шулика описала широкий круг, но, потеряв из виду добычу, скрылась в лучах заходящего солнца.
Казак открыл глаза. Полежав еще с минуту, встал, направился к коню и привычными движениями стал подтягивать подпруги. Конь недовольно фыркнул. Его карие глаза стали злыми, а маленькие уши прижались назад.
— Ну, ну! Не балуй! Не вздумай кусаться!
Но Котенок мотал головой и не хотел брать в рот опротивевшее железо. Он даже куснул слегка хозяина за плечо, но тот все же притянул за челку его голову и засунул в рот мундштук.
Тимка, с Котенком на поводу, выбрался из балки, предварительно удостоверясь, что поблизости никого нет. Прыгнув в седло, шагом поехал по выжженной солнцем степи.
Тимка не нашел в Каневской Бабиева, не было врангелевцев и в Бриньковской. Ольгинская была занята красными. Узнав, что бои идут возле Тимашевки, Тимка пробирался по ночам туда, прячась днем по глубоким оврагам и балкам.
Генерал Алгин, вручая ему записку, трижды перекрестил его и ласково проговорил:
— Езжай и… да поможет тебе бог! Растроганный генеральской приветливостью, Тимка
решил во что бы то ни стало добраться до войск десанта. Он и сам не знал, что его побудило согласиться на выполнение такого рискованного поручения. Вернее всего, тоска по воле и желание скорее вырваться из плавней.
Вахмистр Шеремет, узнав об отъезде сына, насупился. Он хотел приласкать Тимку, но, не зная, как это сделать, стоял молча, не отрывая от Тимки глаз.
— Значит, едешь?
— Еду, — едва слышно ответил Тимка.
— Взрослого не могли, что ли, найти?..
— Я старший урядник… — нотка гордости прозвучала в голосе Тимки.
— Поймают, голову враз оторвут, особливо за то, что урядник.
— Один конец, батя. А так жить — хуже смерти… Шеремет удивленно посмотрел на сына и словно впервые заметил темные круги под его глазами, желтый, нездоровый цвет лица, тоску в когда–то беззаботно веселых, озорных синих глазах. И, всегда суровый к своим детям, старый Шеремет неуклюже обнял сына. Тимке даже показалось на миг, что отец всхлипнул.
«Придется ли свидеться?» — подумал Тимка, вспоминая расставание с отцом, и вздохнул. Правда, цель близка: он уже объехал правый фланг красных и сегодня ночью, резко свернув влево, должен обязательно наткнуться на дозоры десантных войск.
Тимка достал из подсумка пару погон и с трудом приколол их английскими булавками к черкеске.
Наступила ночь. Смолкли далекие раскаты орудий. Ехать пришлось наугад, не разбирая дороги. Тимка стал дремать в седле, убаюканный ровным шагом Котенка. Немного беспокоили лишь непонятная головная боль и легкая слабость, не проходившая вот уже вторые сутки и не схожая с обычным приступом лихорадки. Тимке стало холодно, чтобы согреться, он перевел Котенка на рысь — и чуть не свалился с седла от охватившей его слабости.
Он взялся обеими руками за шею коня и с трудом снова перевел его на шаг. В голове словно работала невидимая кузница. Ухали тяжелые молоты, шуршали мехи. Озноб сменился нестерпимым, палящим жаром, тело покрылось липким потом. Тимка растерянно подумал: «Тиф, должно… Эх, надо, что б там ни было, до утра в седле продержаться!» — и он резко свернул влево.
Вскоре Котенок вышел на дорогу. Чуткие уши коня ловили каждый степной шорох. Пробегал ли трусливый заяц, кралась ли к заснувшей перепелке лиса, шуршала ли, изгибаясь, черная гадюка, свистел ли у норки суслик — все волновало и настораживало Котенка.
Но Тимка не слышал ночной жизни степи. Его вновь, сильней прежнего, стал бить леденящий озноб. Отстегнув от седла бурку, он накинул ее себе на плечи. Немного согревшись, уснул и очнулся, лишь когда конь шарахнулся в сторону, испугавшись чего–то, и чуть не вышиб его из седла.
Была все еще непроглядно–темная ночь. Накрапывал мелкий дождик. Где–то вдали лаяли собаки. «Если это станица Поповическая, то там должны быть наши. А если хутор, то все ж можно рискнуть переночевать», — решил Тимка и направил Котенка прямо на собачий лай.
Прошло довольно много времени, прежде чем перед Тимкой из густой завесы дождя показались деревья и какие–то постройки. «Нет, это не станица, — подумал он, — ну, да все равно», — и под яростный собачий лай въехал в чей–то двор.
В одном из окошек довольно большого дома засветился слабый огонек, и вскоре на крыльце показалась человеческая фигура. Голос у вышедшего человека был грубый, негостеприимный. Но Тимке все было сейчас безразлично. Шум в голове усилился, хотелось укрыться от дождя, а главное — спать, спать…
— Хозяин, пусти переночевать. С дороги сбился.
— А кто такой?
— Дальний я.
— А куда едешь?
— В Поповическую.
— В Поповическую? — переспросил хозяин смягченным уже тоном. — Она у тебя с левой руки осталась. Проехал ты ее, значит… Ну, слезай с коня, до утра перебудешь.
Тимка обрадовался. Он с трудом стал сползать с седла, держась рукой за переднюю луку. Но лишь только он коснулся земли, ноги отказались держать его, и он, теряя сознание, медленно осел на землю. Ему казалось, что он падает в глубокий колодец. Последняя его мысль была: «А что будет с запиской Алгина, зашитой в шапке?»
Хозяин поспешно спустился с крыльца и наклонился над Тимкой. Он снял с него бурку и ощутил на плечах сукно погон с поперечными лычками. Из дому вышел молодой парень в коричневой бекешке внакидку.
— Красный, батя?
— Нет, наш… Урядник… Возьми, Петро, коня. — Хозяин легко поднял Тимку на руки и понес в дом.
В маленькой комнате с единственным окном, закрытым наглухо ставней, — полумрак. Слабый свет проникает лишь из соседней комнаты, скупо освещая деревянную кровать у стены да сложенные в углу тыквы.
Тимка всматривался в их причудливые формы и размеры, от длинных оранжевых и золотистых перехваток до серых кругловатых глыб. Он долго не может вспомнить, что с ним случилось, и как он очутился в этой комнате. Напряженно морщит лоб. Наконец с трудом припоминает свою поездку и внезапную болезнь, дождливую ночь и лай собак… Постепенно в памяти воскресают: генерал Алгин, крестивший его на дорогу; угрюмый отец, обнявший его на прощанье; бородатый казак, вышедший на крыльцо… и чье–то женское молодое лицо, так часто склонявшееся над ним во время болезни.
Сколько он пролежал в постели, Тимка определить не мог. Одно лишь ему ясно, что он находится у людей, сочувствующих белым. Иначе за ним не стали бы так бережно ухаживать, ведь на его черкеске — он хорошо помнит — были погоны с нашивками старшего урядника.