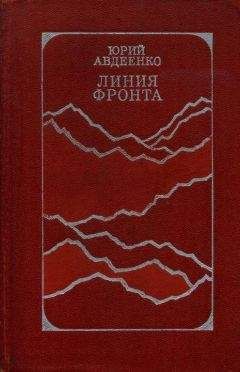«Затанцевала тропинка без всякой музыки — ишь, нетрезвая! Значит, дожили до первого снега. Хорошо! Потому хорошо, что теперь весну ждать будем.
А весной немцу капут, ну не весной, так самое позднее осенью. Под Сталинградом его все-таки за жабры взяли, от Туапсе гоним. Это гансам не Западная Европа.
Эх, знать бы, как сложится жизнь!.. Но живой человек о живом и думает. Вот если бы к сентябрю с фашистом покончили, расквитались и приказ нам вышел демобилизоваться, первым делом — в Туапсе! Взвесили бы все с Нюрой и решили: осесть ли нам у Черного моря или подаваться в другие края? Климат тут больно подходящий. Море — раз, рыбалка — два, охота — три. Места курортные. Значит, по торговой части работа всегда найдется. Понятно… С жильем туговато на первых порах будет. Отстроимся. С головой на плечах все перебороть можно. Сентябрь, октябрь, ноябрь… Глядишь, в июне, самое позднее — в июле Нюра бы сына подарила…»
Его окликнули из темноты:
— Кто идет?
— Свои. Иноземцев.
Разведрота располагалась в сарае на подворье старичка адыгейца, дом которого был начисто снесен снарядом, но подвал, сложенный из толстых каменных плит, уцелел. В этом подвале и жили адыгеец, его жена, две невестки, внуки и внучки. Здесь, в горах, нередко попадались вот такие одинокие подворья. В Прибалтике их называют хуторами. Может, это тоже хутора, только на кавказский манер.
Когда Иноземцев поравнялся с подвалом, он услышал песню, негромкую, грустную. Ясное дело, пели ее не разведчики, потому что у них другие песни. А это была незнакомая Ивану песня на чужом языке.
Иноземцев вошел в подвал.
В просторном теплом помещении с низким неоштукатуренным потолком и земляным полом горела керосиновая лампа, теплился мангал, на котором стояла сковородка с каштанами. Старый адыгеец сидел на низкой скамейке возле мангала и пел, закрыв глаза. Рядом на ковре, обутые в мягкие чувяки, сидели пятеро маленьких внуков; три женщины, две молодые и пожилая, почтительно стояли возле стенки.
Иван тоже прислонился к стене. Тепло пробиралось под шинель. А песня, несколько монотонная, убаюкивала.
— О чем он поет? — спросил Иноземцев молодую женщину, стоявшую ближе остальных.
— Он поет про родной край. Про ручьи, про горы, — отвечала женщина, застенчиво улыбаясь. — Про то, что он знает здесь каждый камень, каждую тропку…
— Каждый камень и тропку? — недоверчиво спросил Иван.
— Это правда…
Иван восхищенно покачал головой, Он еще некоторое время слушал пение, потом нетерпеливо посмотрел на часы и подошел к старику.
— Отец, позволь прервать твою песню. Дело есть…
Старик умолк. Открыл глаза и пристально посмотрел на Ивана.
— Поговорить мне с тобой надо…
— Говори, — строго ответил адыгеец.
— Выйдем. С глазу на глаз нужно…
Старик сделал жест рукой. И женщины, подхватив детей, выскользнули из подвала.
— Эх! — досадливо махнул рукой Иноземцев. — Ну да ладно! — Наклонившись к старику, негромко сказал: — Ты, отец, здесь все знаешь… Через щель проход есть?
— Нет! — не задумываясь, ответил старик.
Иноземцев выпрямился. Помолчал в раздумье. Потом:
— Значит, перебраться на ту сторону нельзя?
— Можно, — чуть дрогнули губы старика.
— Как понять?
— За корни цепляться будешь. На площадка прыгать… Той скала старый дуб есть. Будешь кидать петля, как на скакун… Умеешь?
— Не приходилось, — признался Иноземцев.
Старик поднялся со скамейки. Стройно, не горбясь, вышел на середину подвала. Сказал:
— Я будешь провожать тебя, если нужно, И петлю сам кидать на дуб.
— Хорошо, отец, спасибо…
2
Дверь в пещеру была открыта, и дневной свет, скупой и мягкий, крадучись, стелился по мокрым стенам.
Снег, грязный, успевший за ночь постареть, лежал перед порогом. Накрапывал дождь, и снег был остекленелым, набрякшим, точно подмоченный сахар.
Журавлев поднял трубку полевого телефона, крутнул ручку магнето.
— Дайте четвертого. Это я, батя… Составьте наградные. На Иноземцева… К ордену Отечественной войны. Нет. Первой степени. Вторая у него есть. И на старика адыгейца. Записывай его фамилию. Коблев Заур Георгиевич. К ордену Красной Звезды. Понял? Так… К пятнадцати ноль-ноль подготовь боевое донесение в штаб дивизии. Да… Обзвони командиров батальонов, пусть представят списки отличившихся.
Майор положил трубку. Удовлетворенно потер руки.
Успех обеспечила внезапность. Немцы, конечно, никак не ожидали обнаружить у себя на загривке батальон русских, да еще с минометами. Они сражались остервенело. И выхода у них было только два: погибнуть или сдаться в плен. Многие сдались.
— Вы знаете, что произошло под Сталинградом? — спросил Журавлев одного из пленных.
— Нет.
— Армия Паулюса в котле.
— Этого не может быть, — уверенно ответил пленный.
Журавлев вышел из-за стола и некоторое время задумчиво ходил по КП. «Что делать? Как поступить? — билось в голове. — Я командир. Но я и человек. И не имею права забывать об этом. Так ли? А если у меня сейчас одно право — бить врага. Бить, бить, бить!.. Но во имя чего? Во имя жизни. Это все так просто. И так сложно». Он остановился возле рации, за которой сидела радистка Тамара, и совсем не по-командирски спросил:
— Как ты думаешь, Тамара? Я же должен ответить на письмо. Ведь теперь Приходько не моя подчиненная, ведь теперь мы… — Он развел руками. — Влюбленные… Правильно я говорю, Тамара?
— Очень, товарищ майор… Если бы знали, что за любовь у нее к вам… — Тамара сделала паузу, потом, словно выдохнув, сказала: — Чистая и настоящая!
Журавлев вынул из планшета широкий командирский блокнот, раскрыл его. Присев к столу, написал:
«Здравствуй, Галя!»
Потом зачеркнул написанное, перевернул страничку, вывел:
«Здравствуй, дорогая Галя!»
3
Снег опять смыло. И жухлые стебли бурьяна не гнулись под ветром, а дрожали мелко, тряслись, как в лихорадке. Кустарники, опутанные ежевикой, неподвижно смотрели на них, поблескивая скупо, будто отлитые из свинца. Сырость пронизывала рассвет. Однако дождь, ливший все прошлые сутки и большую часть сегодняшней ночи, прекратился уже около часа назад.
Иноземцев с группой разведчиков выходили из тыла противника. За двое суток, которые они отсутствовали, позиции полка могли переместиться и вперед, и назад, во всяком случае, едва ли оставались на прежних высотах. Вот почему двигаться приходилось особенно осторожно и осмотрительно. Нынешнюю вылазку нельзя было отнести к самым удачным, хотя сведения, добытые на станции Хадыженской, могли заинтересовать не только командование полка, но и дивизии.
Настроение у Ивана было хорошее. Он все еще находился под впечатлением той операции, которую они провели с Зауром Коблевым. Нет, старый адыгеец не преувеличивал, когда пел, что знает в родных краях каждую тропку, каждый кустик. Он повертел в руках веревку, ее притащил Иноземцев, поцокал языком и отрицательно замотал головой:
— Нет! Гибкость нет!
Ушел в подвал. Принес моток веревки. Темной, будто промасленной. Сделал петлю. Для броска примерялся.
— Пойдет, — сказал. — Хорошо ложиться будет.
Когда Иноземцев и адыгеец уходили, женщины стояли у подвала. Они не плакали и не печалились, а смотрели на старика преданно и робко.
Адыгеец вел Ивана какими-то одному ему известными путями. Он шел быстро, чуть согнувшись в пояснице, по не хватался руками за ветки и корни, как это делал Иноземцев, а только размахивал ими, балансируя.
Двое солдат из батальона связи присоединились к ним уже на вершине горы.
— Сколько тебе лет, отец? — спросил Иноземцев.
— Семьдесят четыре…
— Хорошо ходишь.
— Годы позволяют. Дед в девяносто лет охота ходил.
У края пропасти остановились. Гора напротив отвесно падала вниз. Снег кружил совсем редкий, но луну закрывали облака. Старик вгляделся в ночь. Поднял руку, указывая вперед:
— Дуб видишь?
— Нет, — признался Иван.
Старик присел. Схватился руками за что-то — и вдруг исчез.
— Елки зеленые!.. Оступился дед, — прошептал один из солдат.
— Тише, — предостерег Иноземцев.
Что-то свистнуло на той стороне, словно кто-то ударил плетью.
Потом снизу, из-под ног, они услышали голос Коблева:
— Ходи сюда. Дорога надежный есть.
— Где ты, отец? — растерянно спросил Иноземцев.
— Самый край ходи. На четверенькам садись. Руками корень держаться будешь.
Иноземцев присел. И действительно, нащупал пальцами мокрый корень, толщиной с канат. Он крепко схватился за него и начал сползать вниз.
— Джигит, смело прыгай!
Иноземцев разжал пальцы. И очутился на твердой площадке рядом с адыгейцем.