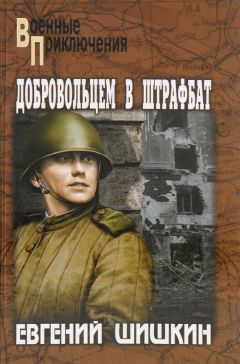— Завьялов! Даю тебе отделение погибшего Воронкова — и заткни эту… эту сволочь! — криком приказывал ротный Шумилов. — Он всех людей погубит!
Сволочь устроилась в бетонном, замаскированном доте на окраине осажденного города, пропустила атакующие самоходки, а следом идущую пехоту отрезала крупнокалиберными. Федор с товарищами по-пластунски дал кругаля, а когда подобрались к цели и взорвать бы железную дверь дота, дверь та настежь распахнулась и фриц-пулеметчик вышел оттуда с поднятыми руками: патроны кончились.
— Да я б тебя и мертвого расстрелял! Ты сколь народу-то у нас положил? Теперь ручки поднял? Скотина ты бессовестная!
Сперва черные, а потом закрасневшие от крови отметины испортили сукно фрицевской шинели.
А война все еще не кончалась.
Скоро и здесь, у солдатских костров на краю унылого леса, оборвется тишина. Роту встревожит внеурочная стрельба: группка немцев, стиснутых окружением, пошла на прорыв, стремясь восвояси — на свой день ото дня сжимающийся запад. Но пока Федор, прислонившись спиной к ольхе, укутав ноги в плащ-палатку, безмятежно дремлет. Усталые сапоги и почернелые портянки сушатся у костра.
Вася Ломов отрешенно наблюдает, как по изгорелым сучьям еще ходит нутряной красный жар, мечтает о доме. О чем ему больше мечтать? Иногда он оборачивается на Федора, у которого на щетинистую впалую щеку вытекла слеза, мимоходом думает: «Сон, наверно, плакливый видит».
Напротив — Федору виделся сон без всякой горести. Восторженный, светлый. Слеза на его щеке была случайна, от дымовитого костра.
Будто шагает он ясным солнечным днем по зеленой березовой роще. Стволы у берез ровные, белые, без задорин. Листья на тонких плакучих ветках — один к одному, свежие, глаз ласкают. Над головой небо с большими клубящимися облаками, в которых так и тянет искупаться. Птицы в роще поют, как в раю. И куда бы Федор ни повернул, всюду березы перед ним расступаются, дают травянистую мягкую дорогу. Впереди на поляне видит он: дети резвятся. Пятеро мальчуганов. Визжат, смеются, гоняются за пестрой бабочкой. Рубашонки у малышей белые, одинаковые, штаны короткие на одной помочи. Все, как один, русоголовые, глаза веселые, ясно-карие. «Пятеро? — думает Федор. — Так не Захаровы ли сыны? У земели-то их как раз столько». Сладкое предчувствие встречи с Захаром охватывает Федора. Но «земели-то» нигде не видать. Ребятишек пасет юная девушка в светлой кофточке. Длинная, с лентой заплетенная коса лежит на плече, на голове венок из цветов. Подходит к ней Федор ближе. «Здравствуешь, красавица!» — говорит он наставнице. «Добрый день, Федор Егорыч!» — улыбается она ему; на щеках у нее приветливый румянец. Федор глядит на нее и диву дается: все известно в ней, каждая черточка прежде видена, но единого образа-то не складывается. Голос у нее медсестры Гали, а глаза Ольгины и улыбка ее, но по стати совсем не Ольга — очень хрупкая и по манерам иная. «Чьи дитяти-то у тебя?» — спрашивает Федор. Она смеется, и не понять, правду говорит или шутит: «Твои, Федор Егорыч. Разве не узнал?» Федор растерялся, каждого из малышей оглядывает, к своему обличью примеряет. Не может поверить, но спросить: когда такое случилось? — побаивается. Как бы не опозориться: стыдно про своих ребятенков не знать. Глядит он на пацанят, и трепет радости его забирает. Может быть, и вправду все невзгоды давным-давно кончились и детишки его и есть. От Ольги. Федора пронизывает счастье, да такое высокое, всеохватное, которое возможно только во сне. Снова он глядит на добрую девушку, хочет про Ольгу спросить. Но опять же побаивается: вдруг это Ольга перед ним и стоит! Верхняя пуговка на кофточке у девушки расстегнута, и Федор замечает на груди у нее, на гасничке, знакомый нательный крестик Этот крестик ему Танька напутно в руку после суда положила. Этот крестик ему жизнь спас. Федор глядит в глаза девушки, собирается про крестик разузнать.
Не успел. Пробудили.
Ротный почтарь передал Федору письмо в кузов бортовой машины. По веселой привычке добавил: «Будешь должен». «Буду», — согласился Федор.
— От мамани письмо-то? — поинтересовался Вася Ломов, сидевший рядом.
— Рука ее. От мамани, — машинально отозвался Федор, жадным взглядом охватывая исписанный лист.
— Чего пишет-то? Поди, тоже весна началась? Снега тают?
На свой дружеский вопрос ответа Вася Ломов не дождался. Федор молча сложил прочитанное письмо, сунул за пазуху, поднял ворот шинели и зарылся в него лицом. Вася Ломов испытывал неуютность и какую-то вину, догадываясь, что с письмом к Федору пришли худые вести. «Раньше, бывало, вслух кое-чего зачитает, а теперя вон как», — подумывал он, глядя то на скорчившегося Федора, то на низкое серое небо, которое плыло встречь машине.
Полуторка неслась по шоссе, обгоняя пеших солдат и артиллерийские орудия на конной тяге. Вперед, все глубже в чужую землю. Ветер сбоку бил в лицо сидящим вдоль бортов солдатам.
На окраине небольшого городка машина настигла танковый полк, загромоздивший дорогу, свернула на пустынную улицу и остановилась. Ротный командир Шумилов выбрался из кабины и, видно, заранее имея на то предписание, отдал приказ: «Прочесать квартал!»
— Федь, вылазь. Ротный велит. По домам пройтись. — Вася Ломов осторожно потряс Федора за плечо.
Федор, пряча глаза и по-прежнему заслонясь поднятым шинельным воротником, неловко, как старик, полез через борт полуторки.
Взяв автомат на изготовку, Вася Ломов пнул сапогом низкую калитку двухэтажного помещичьего дома. Калитка слетела с одной петли, косо обвисла. В окнах дома никто не промелькнул. Нигде не дрогнули занавески. Лишь по-за домом, на подворье, глухо залаяла собака. Но вскоре смолкла.
— Still! Halt's maul! — усмирял ее мужской голос.
Вася Ломов подошел к парадной двери. Федор заторможенно брел за ним. Парадная оказалась не заперта. Они вошли в просторную переднюю, остановились у напольного ковра: не хотелось портить грязными сапогами невинный цветистый узор.
— Есть кто? — крикнул Вася Ломов.
Из глубины многокомнатного дома никто не отозвался. Лишь с подворья опять послышался басовитый собачий лай и торопливый немецкий говор, пресекающий это тявканье. Осматривать комнаты дома не стали, по коридору направились к черному ходу, ведущему на двор.
Посреди песчаного двора, по периметру ограниченного булыжником, стоял высокий седовласый хозяин, с тонким носом и близко посаженными к переносью светлыми глазами. На нем был бордовый, из толстой материи халат с атласными лацканами. Хозяин покрикивал на мордатого белого дога, который был привязан поводком к столбу летней веранды. Дог рычал и злобно пучил большие красные глаза. Вася Ломов хотел сразу пристрелить противную псину, но хозяин делал успокоительные жесты: мол, не беспокойтесь, не укусит, и по-русски-немецки уверял: «Все есть хорошо! Alles ist gut!» Тут же, по песчаной площадке, расхаживал увальнем черный толстозадый индюк, откормленный будто для выставки; вертел маленькой, гордо задранной головой с красной висюлькой под носом.
— Господа зольдаты, я есть к вам добро. В мой дом никого нет. Я говорил честно. — По-русски хозяин изъяснялся сносно: на здешних помещиков гнули спины славянские пленные батрачки. — Вы можете брать здесь все, ште угодно. Прошу не трогать только меня, только мой индюк, только мой собака… Хитлер капут! — выкрикнул он, будто пароль, необходимый при встрече с русскими.
Вася Ломов недовольно щупал хозяина взглядом. Ему не нравился его тонкий нос и шелковые лацканы толстого халата. Но не знал, чем покончить досмотр. Больше всего его раздражал белый дог. «Грохнуть этого теленка да айда», — подумал он. Однако хозяин, цыкнув на дога, опять заискивающе настаивал на трех пунктах:
— Господа зольдаты, все можно брать. Ште угодно. Только прошу — мой индюк, мой собака, мой жизнь…
Это повторенное условие в какой-то момент вытолкнуло Федора из понурого самоустранения. Он стоял позади Васи Ломова как тень, но теперь твердо шагнул вперед, сжав в руках взведенный автомат. Хозяин еще рассыпался и предлагал: «…можно брать у меня много еды, мясо… только — мой индюк, мой собака, мой жизнь…»
Федор сперва застрелил индюка. Легкую индюшачью тушку снесло пулями в сторону, вспорхнули выбитые черные перья. Дог рванулся вперед, захлебываясь в лае. Но автоматная очередь тут же ударила ему в пасть, в грудь, и дог свалился в красных кровяных дырах на белой шерсти, оскалив клыки и слюнявые десна.
Немец стоял в ужасе. Руки у него тряслись. Тонкие побелевшие губы нервно дергались.
— Хитле-ер кап-пут, — заикаясь, залепетал он. И вдруг, приходя в исступление, завопил: — Хитлер капут! Капут!
Федор не спеша подошел к нему, приставил автоматное дуло, из которого чуть сочился пороховой дым, к шелковому лацкану халата.
— Раньше-то чего, сука, молчал? — сквозь зубы, неколебимо глядя в глаза немцу, сказал он. — Чего тебе, падле, без нас-то не жилось? А?