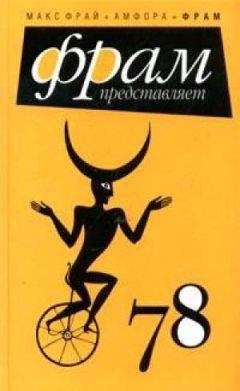10
Остаток зимы и раннюю весну провел Мересьев в школе переподготовки. Это было старое стационарное училище военных летчиков с отличным аэродромом, великолепным общежитием, богатым клубом, на сцена которого гастрольные группы московских театров ставили иногда выездные спектакли. Эта школа тоже была переполнена, но в ней свято сохранялись довоенные порядки, и даже за мелочами формы приходилось тщательно следить, потому что за невычищенные сапоги, за отсутствие пуговицы на реглане или за то, что летный планшет впопыхах наденешь поверх пояса, приходилось по приказу коменданта «рубать» часа по два строевую подготовку.
Большая группа летчиков, в которую был зачислен и Алексей Мересьев, переучивалась на новый тогда советский истребитель — ЛА-5. Подготовка велась серьезно: изучали мотор, материальную часть, проходили технику. Слушая лекции, Алексей поражался, как далеко ушла советская авиация за сравнительно небольшое время, какое он провел вне армии. То, что в начале войны казалось смелым новаторством, теперь безнадежно устарело. Юркие «ласточки» и легкие МИГи, приспособленные для высотных боев, казавшиеся в начале войны шедеврами, снимались с вооружения. Им на смену советские заводы выпускали рожденные уже в дни войны, освоенные в баснословно короткие сроки великолепные ЯКи последних моделей, входившие в моду ЛА-5, двухместные ИЛы — эти летающие танки, скользящие над самой землей и сеющие прямо на головы врага и бомбы, и пули, и снаряды, уже получившие в немецкой армии паническое прозвище «шварцер тод», то есть «черная смерть». Новая техника, рожденная гением борющегося народа, неизмеримо усложнила воздушный бой и требовала от летчика не только знания своей машины, не только дерзкой непреклонности, но и уменья быстро ориентироваться над полем боя, расчленить воздушное сражение на отдельные составные части и на свой страх и риск, часто не ожидая команды, принимать и осуществлять боевые решения.
Все это было необычайно интересно. Но на фронте шли жестокие незатухающие наступательные бои, и, сидя в высоком, светлом классе за удобным черным учебным столом, слушая лекции, Алексей Мересьев тягуче и мучительно тосковал по фронту, по боевой обстановке. Он научился подавлять в себе физическую боль. Он умел заставлять себя совершать невероятное. Но и у него не хватало воли подавлять в себе эту безотчетную тоску вынужденного безделья, и он иногда неделями бродил по школе молчаливый, рассеянный и злой.
К счастью для Алексея, в той же школе проходил переподготовку и майор Стручков. Они встретились как старые друзья. Стручков попал в школу недели на две позже, но сразу же врос в ее своеобразный деловой быт, приспособился к ее необычным для военного времени строгостям, стал для всех своим человеком. Он сразу понял настроение Мересьева и, когда они после вечернего умыванья расходились по спальням, подтолкнул его в бок.
— Не горюй, парень: на наш век войны хватит! Вон еще сколько до Берлина-то: шагать да шагать! Навоюемся. Досыта навоюемся.
За два или три месяца, которые они не виделись, майор заметно, как говорят в армии, «подался» — осунулся, постарел.
В середине зимы летчики курса, на котором учились Мересьев и Стручков, начали летную практику. Уже до этого ЛА-5, маленький короткокрылый самолет, очертаниями своими похожий на крылатую рыбку, был хорошо знаком Алексею. Частенько в перерывы он уходил на аэродром и смотрел, как с короткой пробежки взлетали и как круто уходили в небо эти машины, как вертелись они в воздухе, сверкая на солнце голубоватым брюшком. Подходил к самолету, осматривал его, гладил рукой крыло, похлопывал по бокам, точно это была не машина, а холеная и красивая породистая лошадь. Но вот группа вышла на старт. Каждый стремился скорее попробовать свои силы, и началось сдержанное препирательство. Первым инструктор вызвал Стручкова. Глаза у майора засияли, он озорновато улыбнулся и что-то возбужденно насвистывал, пока пристегивал ремни парашюта и закрывал кабину.
Потом грозно зарокотал мотор, самолет сорвался с места, и вот он уже бежал по аэродрому, оставляя за собой хвост снежной пыли, радужно переливающейся на солнце, вот повис в небе, блестя крыльями в солнечных лучах. Стручков описал над аэродромом крутую дугу, заложил несколько красивых виражей, перевернулся через крыло, проделал мастерски, с настоящим шиком весь комплекс положенных упражнений, скрылся из глаз, вдруг вынырнул из-за крыши школы и, рокоча мотором, на полной скорости пронесся над аэродромом, чуть не задев фуражек ожидавших на старте курсантов. Снова исчез, затем появился и уже солидно снизился, с тем чтобы мастерски сесть на три точки. Стручков выскочил из кабины возбужденный, ликующий, бешеный, как мальчишка, которому удалась шалость.
— Не машина — скрипка! Ей-богу, скрипка! — шумел он, перебивая инструктора, выговаривавшего ему за лихачество. — На ней Чайковского исполнять... Ей-богу. Живем, Алешка! — И он сгреб Мересьева в свои сильные объятия.
Машина действительно была хороша. На этом сходились все. Но когда очередь дошла до Мересьева и он, прикрепив к педалям управления ремнями свои протезы, поднялся в воздух, он вдруг почувствовал, что конь этот для него, безногого, слишком резв и требует особой осторожности. Оторвавшись от земли, он не ощутил того великолепного, полного контакта с машиной, который и дает радость полета. Это была отличная конструкция. Машина чувствовала не только каждое движение, но и дрожание руки, лежащей на рулях, тотчас же фиксируя его соответствующим движением в воздухе. Своей отзывчивостью она действительно походила на хорошую скрипку. Вот тут-то и почувствовал Алексей со всей остротой непоправимость своей утраты, неповоротливость своих протезов и понял, что при управлении этой машиной протез — даже самый лучший, при самой большой тренировке — не заменит живой, чувствующей, эластичной ноги.
Самолет легко и упруго пронзал воздух, послушно отвечал на каждое движение рычагов управления. Но Алексей боялся его. Он видел, что на крутых виражах ноги запаздывают, не достигается та стройная согласованность, которая воспитывается в летчике как своего рода рефлекс. Это опаздывание могло бросить чуткую машину в штопор и стать роковым. Алексей чувствовал себя как лошадь в путах. Он не был трусом, нет, он не дрожал за свою жизнь и вылетел, даже не проверив парашюта. Но он боялся, что малейшая его оплошность навсегда вычеркнет его из истребительной авиации, наглухо закроет перед ним путь к любимой профессии. Он осторожничал вдвойне и посадил самолет совершенно расстроенный, причем и тут из-за неповоротливости ног дал такого «козла», что машина несколько раз неуклюже подпрыгнула на снегу.
Алексей вылез из кабины молчаливый, хмурый. Товарищи и даже сам инструктор, кривя душой, принялись наперебой хвалить и поздравлять его. Такая снисходительность его только обидела. Он махнул рукой и молча заковылял через снежное поле к серому зданию школы, тяжело раскачиваясь и подволакивая ноги. Оказаться несостоятельным теперь, когда он уже сел на истребитель, было самым тяжелым крушением после того мартовского утра, когда его подбитый самолет ударился о верхушки сосен. Алексей пропустил обед, не пришел к ужину. Вопреки правилам школы, строжайше запрещавшим пребывание в спальнях днем, он лежал в ботинках на кровати, заломив под голову руки, и никто — ни дежурный по школе, ни проходившие мимо командиры, знавшие о его горе, не решались сделать ему замечание. Зашел Стручков, попытался заговорить, но не добился ответа и ушел, сочувственно качая головой.
Вскоре после Стручкова, почти вслед за ним, в спальню, где лежал Мересьев, вошел замполит школы подполковник Капустин, коротенький и нескладный человек в толстых очках, в плохо пригнанной, мешковато сидевшей на нем военной форме. Курсанты любили слушать его лекции по международным вопросам, когда этот неуклюжий по внешности человек наполнял сердца слушателей гордостью за то, что они участвуют в великой войне. Но как с начальником с ним не очень считались, полагая его человеком гражданским, в авиации случайным, ничего не смыслящим в летном деле. Не обращая внимания на Мересьева, Капустин осмотрел комнату, понюхал воздух и вдруг рассердился:
— Кой черт здесь накурил? Ведь есть же курилки. Товарищ старший лейтенант, что это значит?
— Я не курю, — равнодушно ответил Алексей, не меняя позы.
— А почему вы лежите на койке? Не знаете правил? Почему не встали, когда вошел старший начальник?.. Встаньте.
Это не было командой. Наоборот, это было сказано очень по-штатски, мирно, но Мересьев вяло повиновался и вытянулся около койки.
— Правильно, товарищ старший лейтенант, — поощрил Капустин. — А теперь сядьте, и посоветуемся.
— О чем?
— А вот как нам с вами быть. Может быть, выйдем отсюда? Мне курить хочется, а у вас тут нельзя.