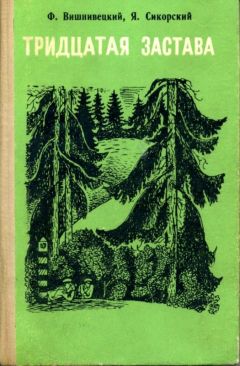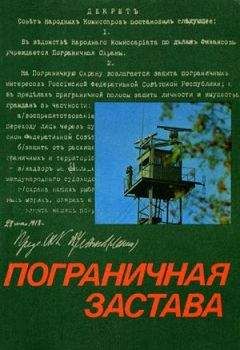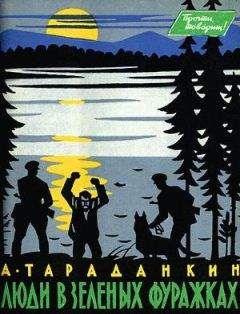Одно пугало Грету: выдержит ли она пытки? Ей много ужасного наговорили о зверствах советских чекистов.
Однако на первых допросах ничего похожего на пытки не было. Все обращались с ней корректно, вежливо, ни одного грубого слова не сказали. «Это понятно, они предчувствуют свое поражение и боятся нас», — сделала вывод Грета.
С этими размышлениями шпионка прилегла на деревянную кровать и погрузилась в то дремотное состояние, когда в утомленном сознании картины действительности причудливо переплетаются с кошмарами болезненной фантазии. Скорей бы крепко уснуть. Ничто так не успокаивает, как сон.
Но уснуть ей не удалось: утром ее снова повели в штаб. Легкая прохлада немного освежила, взбодрила. Чистое небо, тихие улочки городка напомнили прошлое, жизнь в Фридрихстале… пытливо приглядывалась к встречным военным. Озабоченность, презрение — все, что угодно, можно было прочесть на лицах советских воинов, только не страх.
И тогда ее охватил ужас. Значит, они не боятся, не считают себя обреченными? И ведут ее, должно быть, не на допрос, а на расстрел?
Но ее привели на допрос. В ту же комнату, к тем же командирам. Нет, и новый есть. Высокий, плечистый. Она даже фамилию запомнила, как-то встречала — Шумилов. «Что он может знать обо мне?»
— Садитесь, Ирина Ивановна Кривошлык, — спокойно предложил Шумилов. — Итак, вы говорите, учительница…
И он кратко передал все, что узнал от Стуся. Грета не отрицала, она действительно не Ирина Кривошлык. Охватившая ее по дороге сюда слабость прошла.
— А остальную часть биографии расскажите сами и, кстати, прочитайте вот эту бумажку… — Шумилов указал на шифровку, лежащую рядом с ее рацией и топографической картой.
— Вы достаточно осведомлены в вопросах моей биографии, добавить ничего не могу. — При этом она даже улыбнулась, почувствовав себя настоящей героиней. — А что касается бумажки, то вы сами понимаете — это не мои секрет, и было бы предательством с моей стороны…
— Кого бы вы предали?
— Близких, доверившихся мне людей, наконец, идеалы, во имя которых…
— Не паясничайте, фройлен Краузе, или как там вас… Вам уже некому изменять, разве что полковнику Геллеру. Фридрихсталю, земле, которая вас вскормила, вы давно изменили…
Кровь ударила в голову, потом отхлынула. Ей показалось, что сердце вот-вот остановится. Вместо героини она показалась сама себе жалким существом.
После очной ставки с Вандой и Стусем Шумилов приказал увести арестованную. Когда уводили, она настороженно взглянула на Шумилова и тихо спросила:
— Меня расстреляют?
— А это зависит от вашего дальнейшего поведения. Мы не фашисты, без суда не казним, — вместо Шумилова ответил Кольцов.
Дальнейшее следствие по делу арестованного Стуся и шпионки пришлось отложить. Пограничники вместе с приданными танковыми и артиллерийскими подразделениями Буковинской армии ушли из Бара на выполнение особого боевого задания. Ушли не все — два батальона вместе с маневренной группой остались для охраны тыла фронта.
3
Сердито шумят зрелые колосья пшеницы, клонясь к земле под тяжестью зерен, и со стоном умирают, раздавленные гусеницами, колесами, копытами, сапогами…
Массы людей — старых и молодых, вооруженных и безоружных, конных и пеших — шли и шли, не выбирай дорог, безжалостно уничтожая то, что было взращено их же руками.
К середине июля немецко-румынским войскам удалось наконец прорваться к Могилев-Подольску и повиснуть на флангах южной группы советских войск. Это стоило им огромных потерь. Один из генералов гитлеровского штаба писал: «Войска армии „Юг“ все более теряют свою форму». Но они теряли не только форму — десятки разгромленных дивизий и — что важнее всего было для Гитлера — темпы. Провал планов молниеносной войны стал очевидным не только для генералов, но и для рядовых участников сражений. Им обещали, что к этому времени они будут купаться в Днепре, разгуливать по улицам Киева, Днепропетровска, Запорожья… Румынские фашисты мечтали об одесских пляжах, курортах, о морских прогулках. А сколько таких мечтателей сложили головы на Пруте, Днестре, Збруче?
Гитлер обвинял и менял генералов, генералы обвиняли свою разведку, которая неправильно информировала их о силах русских, абвер обвинял своих армейских руководителей…
Шмитцу некого было обвинять. Ипомея в последние дни почему-то замолчала. Молчал и Коперко. А именно теперь, когда решался вопрос об окружении и уничтожении южной группы советских войск, их сведения очень нужны. Он снова снарядил радиста, но и тот где-то затерялся, а может, уничтожен. Надо готовиться к новой операции…
Возможность окружения советских войск на юге стала очевидной еще о начале июля. Для предотвращения этого и создавался ударный кулак в Баре из прошедших уже боевое испытание армейских и пограничных войск и фронтового резерва. Положение было напряженным. Радио каждый день приносило известия одно другого тревожнее. Накануне выступления из Бара Антон встретил Николая Лубенченко. Тот с нескрываемой радостью сообщил, что снова восстановили звание комиссаров, полюбившееся ему с детства.
— Слышал о Смоленске? — спросил Байда.
— А что?
— Вчера оставили…
— Значит, теперь они на Москву попрут? Чего же мы здесь копаемся? А может, мы и двинем туда, под Москву, товарищ комиссар батальона?..
— Нет, Коля, там и без нас найдутся защитники, а мы к Днепру будем пробиваться… Уже получен приказ.
Подвижные, оснащенные лишь стрелковым оружием — винтовками, автоматами, пулеметами да «карманной артиллерией», — усиленные небольшими подразделениями противотанковых орудий и танков, пограничники темной ночью вышли из Бара. Перед выходом принявший командование ударной группой полковник Кузнецов предупредил командиров частей:
— Это не обычный марш, товарищи, — это бросок сквозь огонь. Все решает время. Нам во что бы то ни стало надо опередить немцев, не дать им перекрыть коридор. Разрывать кольцо будет труднее… В бой с прорвавшимися мелкими группами или десантами не вступать…
Уже в районе Гранова, Китайгорода погранполк натолкнулся на подразделения противника, наступающего с севера на Первомайск. Уклониться от боя было невозможно. В стремительном встречном бою немцев уничтожили, но и сами потеряли немало людей и дорогое время.
Среди тяжелораненых был и командир второго батальон, капитан Проскурин. Временно его заменил комиссар. На коротком отдыхе после боя Байда разыскал Лубенченко. Тот полулежал в кювете, опершись на локоть, и бездумно глядел на избитое, искалеченное поле пшеницы. Было видно, что Николай не предрасположен к беседе, даже головы не повернул, когда Антон присел рядом.
Напряжение встречного боя, ранение командира, отсутствие Юлии, затерявшейся где-то с санчастью среди тылов отступающей армии, — все это разом навалилось на Лубенченко вместе с командирскими заботами. Есть над чем задуматься. Именно поэтому и пришел к другу Байда. Понимал, что навязываться сейчас с какими-либо советами или с сочувствием неуместно. Чтобы отвлечь друга от тяжелых раздумий, завел речь о далеком прошлом. Вспомнил о безрадостном детстве, которое в свете настоящих событий вдруг показалось ему таким привлекательным. Мысль о том, что фронт неумолимо приближается к его родным местам, делала эти воспоминании необычайно живыми.
— Понимаешь, там, в Кривом Роге, на северной шахте Артемовского рудника я начинал свою трудовую жизнь. Там и в комсомол вступал…
Лубенченко встряхнулся, сел, искоса взглянул на непрошеного собеседника и с легкой иронией прервал его:
— Тебя послушать, то на всей земле лучшего места не сыщешь, чем твой знаменитый Артемовский рудник…
В глазах Байды вспыхнули довольные огоньки. «Ага! Таки расшевелил. Вот и хорошо», — подумал Антон, готовясь продолжить разговор, но невдалеке показался на своей лошадке Соколик, и все вдоль дороги пришло в движение. Подымались бойцы, с трудом разминая отяжелевшие ноги. Командиры охрипшими голосами подавали команды, в которых не было надобности, так как и без команд все было ясно. Артиллеристы где-то раздобыли тракторы и, обходя колонны, поспешили в голову: разведчики доложили о появлении слева отдельных танков противника.
Тридцатая застава во время всего этого стремительного похода шла впереди. Василий Иванов ни на шаг не отставал от пулеметного расчета, на ходу перевязывая ладонь, — царапнула шальная пуля. Ему очень хотелось походить на своего комиссара, всегда быть на самом важном, ответственном месте. В трудные моменты боя часто сам ложился за пулемет, заменяя раненых. Так было с первого дня войны, однако до сих пор обходили его вражеские пули. И вот — первое ранение. «Сволочь поганая! И откуда взялась?» — ругался про себя, будто не в бою, а на прогулке повстречался с пулей.