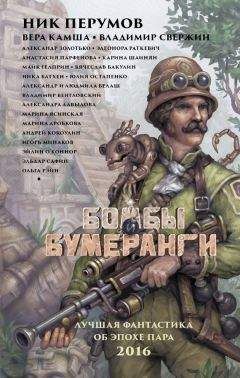— Прошу вас, — прервал ее господин Риим, гример из Берлина. — Догадываться кое о чем и мы догадывались. Например, когда забрали Ганса Отто, об этом знал весь коллектив «Дейтчетеатер»…
— Видите, господин Риим, значит, знали, — послышался чей-то голос из задних рядов. Он принадлежал одному из столяров. — А вы, господин Манке! У вас же собственная вилла была под Линцем! Маутхаузен, который мы только что видели на экране, всего в нескольких километрах от нее. Вы наверняка знали об этом…
— Господин Лакнер, я попрошу вас! — перебил говорившего Зивекинг. Он горел желанием найти золотую середину. — Высказывайтесь по существу.
Обер-лейтенант Колер кивнул головой, но столяр стоял на своем:
— Господин Хинтерленер, на вашем письменном столе фотография Траунзее, по которому вы со своей семьей ездили в Ишл. А на противоположном берегу этого озера находился концлагерь. Неужели вы ничего не замечали? А вы, господин Галингер? — Это был звукооператор. — Вы же местный, из Мюнхена! И вы уверяете, что люди вашего возраста ничего не слышали о Дахау?
— Господин Лакнер, я предупреждаю вас в последний раз! — не выдержал господин Зивекинг.
Колер тоже не мог оставаться равнодушным.
— Простите, господин Болэнд, но и я скажу несколько слов. — Это он сказал по-английски, а затем начал по-немецки: — Знаете, господа, в этом году мне пришлось допрашивать тысячи ваших граждан. И почти каждый из них утверждал, что ничего не знал о концлагерях. Но когда тот или иной из них попадал в трудное положение и вынужден был говорить о своем нацистском прошлом, то неожиданно оказывалось, что у каждого был друг — или еврей, или социал-демократ, или коммунист, — которого он лично прятал от властей или даже спас от смерти. Что вы мне на это скажете, господин Зивекинг?…
— Я полагаю, — произнес Болэнд со злорадной улыбкой, — что высказываний было достаточно. Мы выслушали обе стороны. Спасибо, господин Лакнер! Благодарю, фрейлейн Бекерат! Сейчас я сугубо ради формы хотел бы услышать от господина директора Зивекинга о том, что он, разумеется, и впредь будет рад таким энергичным и откровенным сотрудникам.
Господин Зивекинг с любезной улыбкой дал такое заверение.
Теперь я уже не чувствовал себя таким одиноким.
— Я обнаружила у вас замечательный талант, — сказала мне вечером Урсула, когда мы пили кофе в ее каморке. — Сейчас все так же, как в Аахене. Тогда тоже был такой же фейерверк! Кажется, и теперь он для меня, видимо, станет так же, как и тогда…
В конце апреля, то есть вскоре после скандала в Аахене, Урсулу неожиданно уволили. Ее бывший шеф, комендант города, обвинил ее в том, что она передала профессору Падоверу информацию. Урсула устроилась в «Аахенер нахрихтен», но ненадолго, так как месть бывшего шефа настигла ее и там: ей вообще запрещалось жить в городе.
После окончания войны Урсула и ее подруга Штефи, родом из Вены, сели на велосипеды и направились к австрийской границе. В то время это было предприятие авантюристическое и полностью нелегальное! И то, что обеим девушкам удалось добраться до Мюнхена, было просто чудом.
Сначала Урсула работала переводчицей в армейской прачечной. Там ее и нашел Болэнд, предложив работать в Гейзелгаштейге. Она согласилась при условии, что возьмут и ее подругу…
Урсула наполнила бокалы.
— Как видите, Петр, здесь тоже решающее значение имеют связи, образование и способности…
За это мы и выпили.
Я не мог бы сказать, сколько человек собралось в тот вечер у Эриха Кестнера в его меблированной комнате, в окнах которой было больше разбитых, чем целых стекол. Военные грузовики проносились по улице с таким грохотом, что с потолка сыпалась штукатурка. На кровати, на стульях, взятых у соседей, на письменном столе — повсюду сидели театральные работники, критики, композиторы, художники — все те, кто еще сохранил в Мюнхене ум и критическую мысль.
Это было довольно пестрое общество. Они горячо обсуждали всевозможные проблемы. Говорили о том, что теперь будут делать свободные фильмы, создадут кафе типа «Нахрихтен», организуют выставки картин, наладят культурный обмен между Востоком и Западом. Но больше всего их волновал сейчас вопрос, как все это случилось, что они могли продать свою душу дьяволу. Они собрались у Кестнера потому, что всем хорошо были известны его независимость и душевная чистота.
Мне же пока приходилось отвечать на неприятные вопросы, вроде этого:
— Ваша оккупационная политика должна проучить нацистов! Ваш генерал Эйзенхауэр рекламирует, что хочет искоренить нацизм, а что вчера сказал ваш генерал Паттон? «Для меня национал-социалистическая рабочая партия Германии — такая же партия, как у нас в Америке демократическая или республиканская». Как вы мне объясните это?
Я не мог этого объяснить. Как не мог объяснить, почему американцы сначала заказывают снять фильм о концлагерях, а потом изо всех сил стараются сделать так, чтобы этот фильм (не дай Бог!) не подействовал на нервы чувствительным нацистам. Я не мог объяснить, зачем оккупационные власти издают чрезвычайный закон о ликвидации «ИГ Фарбен», когда на мюнхенской бирже торгуют акциями этого концерна.
Кестнер, казалось, не придавал этому особого значения. Или, быть может, он, как и мой друг Георг Дризен, рассчитывал на то, что в один прекрасный день оккупация кончится и порядочные люди Германии станут хозяевами в своем собственном доме? В настоящий момент Кестнера занимало другое — проблема отбора талантливых людей.
— Перед нами — громадные возможности, — философствовал он. — Начнем все сначала. Нам не нужен никакой балласт. Главная опасность — отсутствие таланта. Одного незапятнанного имени сегодня уже недостаточно. Разумеется, это предпосылка, но ни в коем случае не пропуск, чтобы занять в новой Германии ответственный пост. По-моему, нужно ввести у нас орден Чистой жилетки первой и второй степени. Все порядочные люди будут рады этому, и никому не будет вреда…
Он умно и с полным правом говорил о независимости дарования и характера, процитировал известные слова Гейне о том, что и среди хороших людей бывают плохие музыканты. Кестнер и не подозревал, что играл на руку офицерам из военной администрации, которые не различали незапятнанного имени от запятнанного.
Выходило, что для того, чтобы руководить крупным промышленным предприятием, достаточно быть талантливым человеком в этой области — и только! А если всего какие-нибудь полгода назад этот талантливый специалист был ближайшим пособником Гитлера! Ну, это прошлое! Главное — как можно скорее начать дело! И это относилось не только к фабрикам, городскому управлению, но и к театру, оркестрам, киностудиям…
Вечером я получил письмо.
«Георг Дризен
Битбург, зона США
Марктгассе, 18 октября 1945 г.
Дорогой Петр, или мне теперь нужно называть Вас господином Градецем? Быть может, Вы уже и не помните Георга? Ведь прошло полтора года с тех пор, как наша „Анни“ прекратила свое существование.
Все мы разлетелись в разные стороны. Единственно, кого я вижу время от времени, — это господина Шеля и его молодую супругу. Они работают на радиостанции Люксембурга. Однажды видел господина Дирка. Он был проездом в Битбурге. Я его с трудом узнал в гражданском костюме. Дирк стал большим и важным зверем в военной администрации и занимается денацификацией. Наш дорогой Сильвио написал мне несколько писем. Он наконец-то приземлился в своем театре. У него хороший шеф, по имени Бенно Франк, так что наверняка очень скоро мы будем читать об успехах Сильвио.
Почему я Вам пишу? Вряд ли перед кем еще я мог бы исповедаться. Я работаю здесь на военную администрацию, но меня, как и тогда на улице Брассер, не покидает чувство, что все мои усилия — напрасный труд.
Официально я числюсь нечто вроде детектива. В мою обязанность входит разузнавать, насколько у того или другого рыльце в пуху. Вы подумаете, я стал шпиком? На старости лет Георг стал шпиком? Я всегда хотел помогать выкорчевывать нацистов из нашей общественной жизни. И не простых, а живодеров, конъюнктурщиков, извергов! Так что теоретически я нахожусь на верном месте, но иногда мне кажется, что всем моим докладам грош цена, как будто я бросаю их на ветер.
Меня потряс один случай. Однажды я напал на след человека, который был самым отъявленным палачом в концлагере Заксенхаузен. Моего брата Лукаша умертвили именно в этом лагере. Человек, которого я нашел, имел на своей совести тысячи человеческих жизней. Из них по крайней мере около сорока жертв он умертвил собственными руками. У меня есть фотографии и десятки очевидцев. С большим трудом мне удалось заполучить на него приказ об аресте. Мы знали, что он уроженец этих мест. Приказ об аресте вместе с его фотографией был опубликован в газете. Его развесили повсюду, где только собирались люди. Об этом я лично позаботился в память моего брата.