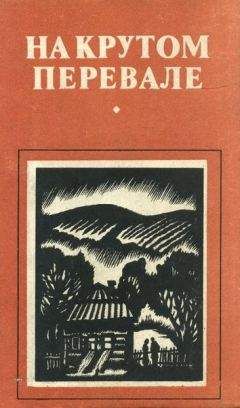Владимир со страхом посмотрел на Анку. В его взгляде были и гнев, и упрек, но Анка не отвела глаз.
— Тэнасе? — выдохнул он.
— Тэнасе… — глухо уронила Анка жестокое слово. Все теперь казалось ей ненужным, особенно объяснения, а тем более оправдания.
Оанча никак не мог осознать, почему Анка приблизила к себе именно Георге Тэнасе. Он действительно вертелся в кругу их друзей, но был человеком угрюмым, раздражительным, привязчивым, с постоянно влажными от пота руками и шеей, с дряблой кожей на щеках, с белесыми, вечно слезящимися глазами. А усы его напоминали помазок!
Оанча каким-то чужим голосом вызывающе бросил:
— Давно?
— Только что выставила… — На лице Анки появилось отвращение, но Владимир этого не заметил, он весь кипел от возмущения и обиды.
Вокруг Анки снова выросла стена ледяного непроницаемого молчания. Она замерла и, казалось, даже не дышала.
Оанча больше не смотрел на Анку, не ощущал ее присутствия. Он долго, не замечая ничего вокруг, сидел на краю кровати, упершись локтями в колени и обхватив голову руками, тихонько покачиваясь, словно в поезде, который увозил его по неведомому пути. Счастливая, солнечная жизнь с Анкой уходила стремительно, как встречный на разъезде. Владимир не мог ни о чем думать, ничего решать. Он видел, видел! Рядом с головой Анки на подушке отвратительная образина инженера Тэнасе. Тэнасе доволен, развалился в постели, обнял Анку, прижимается к ней своей потной дряблой щекой. Он смотрит на Владимира и криво, хитро, мерзко ухмыляется…
«Нет!» Оанча вскочил. В висках у него стучало, сознание гасила дикая злоба. Он подскочил к Анке, отчаянно пнул столик — покатилась бутылка, оставляя ручеек золотистой влаги, по ковру веером разлетелись окурки… Яростно хлопнула дверь. Владимир не помня себя сбежал по лестнице.
* * *
Неделю после этого он не мог успокоиться. Всякий раз, когда он пытался разобраться в случившемся, перед глазами появлялась Анка, и обязательно постель в беспорядке, и бутылка вина на столе, и пепельница, полная едва раскуренных сигарет. И за всем этим — самодовольная ухмылка инженера Тэнасе. Сознание его мутилось. Он ненавидел Анку, он готов был убить Тэнасе.
Оанча теперь был уверен, что все в его жизни рухнуло. И всякое стремление что-либо исправить или восстановить бессмысленно. Зачем карабкаться по отвесной стене разверзшейся между ними пропасти?
Но время шло, и мысли его стали приходить в порядок. Отчаяние сменялось глухой тоской, оскорбленное самолюбие уступало место горькому пониманию. Теперь он думал только об Анке, видел только Анку…
И вдруг он почувствовал всю глубину ее страдания, которое сам ей причинил, и не только после той сумасшедшей ночи, проведенной с Лией, но и потом, в этот свой приезд. Даже в том, что к Анке зашел Тэнасе, виноват он сам. Как же он этого сразу не понял? Ни защиты, ни поддержки, ни понимания Анка от него не получила. И только ее гордость, ее достоинство были ей опорой.
Она, конечно, отвергла всякие притязания инженера, прогнала его. Но ведь ей пришлось защищаться не только от Тэнасе, но и от его, Владимира, бешеной ревности, его немыслимых подозрений. Она не стала ничего объяснять, оправдываться. Да он и не принял бы тогда никаких объяснений. Хотя после случая с Лией сам ждал, а в душе просто требовал от Анки понимания. Значит, все это время он прислушивался только к своей боли, не понимая близкого, любимого человека.
Владимир знал теперь: Анке тяжелее вдвойне, он нужен ей так же, как и она ему, — бесконечно. Это придало ему силы. Надо вновь и вновь пытаться преодолеть пусть даже отвесную стену пропасти между ними. Только в этом была для него надежда.
И еще он понял: время ему не союзник, оно не смягчит, не залечит ни его, ни Анкиных ран. Нужно бросить вызов времени, которое так равнодушно течет между ними, все отдаляя их друг от друга. Владимир решил ехать.
— Прибыли, товарищ капитан! — весело выкрикнул водитель, вырывая Оанчу из плена его мыслей. Они на полной скорости въехали в город.
Оанча выпрямился, но по-прежнему не отрывал взгляда от ветрового стекла. На улице под раскачиваемыми ветром фонарями пузырился на камнях мостовой летний дождь. Темная вода стремительным потоком неслась по обочинам. Крупные, тяжелые капли барабанили по стеклу и капоту машины.
В прежней своей жизни с Анной, когда он в это время возвращался домой, она всегда ждала его, как бы ни было поздно. Он тихонько открывал дверь, входил на цыпочках, бесшумно. Оставлял мокрую шинель и грязные сапоги в прихожей и, не зажигая света, в одних носках прокрадывался в спальню. Анка безмятежно спала, окутанная слабым желто-зеленым светом ночной лампы. Но он знал наверняка, что она только притворяется спящей, молча наклонялся и целовал ее в щеку. Анка вздрагивала, будто на самом деле просыпаясь, обнимала его так крепко, что у него перехватывало дыхание. «Как трудно быть женой офицера!» — говорила она иногда. И в этой простенькой фразе были и гордость, и самоотверженность Анки, и ее понимание всего того, на чем строится их счастье…
«И сегодня я так сделаю! — решил Оанча, когда от воспоминаний у него сладко заныло сердце. Но тут же опомнился: — Дверь ведь может оказаться запертой!»
Надо было звонить. Они проехали не одну улицу, когда наконец на освещенном углу он увидел телефонную будку. Несмело, как застенчивый юноша, вышел из машины, тяжело протопал по луже, втиснулся в телефонную будку. Волнуясь, набрал номер. Торопливо назвал себя, хотя Анка уже наверняка знала, что это он. Она пробормотала что-то невнятное и замолчала: видно, у нее не хватало сил говорить.
Он вышел из будки и пошел сквозь дождь. Машина медленно двигалась за ним. Новые корпуса, омытые дождем и освещенные отражаемым в лужах светом, выглядели весело и нарядно. У подъезда Оанча остановился. Нерешительно взялся за ручку двери. Долго поднимался по лестнице.
Дверь в квартиру и на этот раз оказалась незапертой. Анка, как и в прошлый раз, в том же медно-желтом халатике неподвижно сидела в кресле. Ее потухший взгляд был устремлен в пустоту. Холодность, неподвижность, молчание. Владимир с горечью подумал, что опять, видно, приехал напрасно. Сердце его сжалось. Он уже не слышал дождя за окном, ничего не видел, кроме Анки. Опустился на стул рядом. Опять холодность, неподвижность, молчание. Все слова, приготовленные им к этой встрече долгими часами раздумий и терзаний, унеслись, как будто подхваченные ветром.
И вдруг он пришел в себя, увидев, что Анка плачет, тихо, горько, безутешно. Слезы, не успевая скатываться, высыхали на воспаленных щеках. Беспредельное сострадание, которое вело его всю эту ночь, овладело всем его существом. «Вот как жестоко приходится расплачиваться за один неверный шаг!» — содрогнулся Оанча.
Дождь поутих. Ночь в окне посветлела. Оанча посмотрел на часы, стремительно поднялся — на обратную дорогу оставалось не более двух часов. Он сделал несколько шагов к двери, остановился. Анка по-прежнему плакала, так же беззвучно и безудержно. Она даже не взглянула на него.
Оанча несколько секунд колебался, но вдруг, как будто преодолевая пропасть, широко шагнул к Анке. Решение, которое он принял накануне, снова представилось ему единственно правильным. Он извлек из кармана записную книжку, вырвал листок, отыскал карандаш. Нагнувшись над столом, четко написал свой новый адрес. Затем, пошарив в кармане, достал ключ от своей новой квартиры и осторожно положил его рядом с запиской…
Очутившись на улице, он быстрым шагом, почти бегом, двинулся к машине. Подставив пылающее лицо крупным, теперь уже редким каплям, он шел и думал о любви, об их с Анкой любви.
Дождь вдруг перестал, как будто выполнил свою задачу. За городом поднимался рассвет, а вместе с ним крепла надежда. Промытое дождем небо было еще темным, но и оно, и предутренняя тишина, как и молчание Анки, несли теперь для него надежду. Он так и не сказал Анке ни слова, но…
Ему давно пора было быть в пути. Владимир подождал машину — и она на полной скорости рванулась вперед. Сердце Оанчи все еще ныло, но ожидание больше не пугало его. Каким бы долгим и тяжким оно ни оказалось, Анка поймет, простит, вернется.
Свет бьет в окно словно пучок прозрачного пламени. Начало лета. Солнечно, тепло. Воздух, напоенный ароматом цветения, струится в палату. После обеда Стойкицэ просит зашторить окна: жарко, нога, закованная в толстый белый сапог из гипса, вся горит. Но по утрам он наслаждается солнечным светом, мягким теплом, подолгу смотрит на небо и многое видит в его бездонной голубизне. Дверь в палату слегка приоткрыта: он должен слышать шаги в коридоре, когда начнется воскресное посещение.
Прошло уже больше недели с тех пор, как он попал в госпиталь, но доктор Миза считает, что ему придется пробыть здесь самое малое еще месяц. Нога у Стойкицэ больше не болит, только зудит под гипсом. Ему скучно лежать одному. Вчера еще у него был сосед подполковник Дордя, старше его по возрасту, тоже из горных стрелков. Ему сделали операцию по поводу язвы желудка, но он не выдержал госпитального затворничества и выписался раньше срока. Подполковник Дордя был на фронте, в Трансильвании и Чехословакии. Стойкицэ с восхищением слушал его рассказы о глубоких рейдах через горные хребты, о стремительных ударах по вражеской обороне, тылам гитлеровцев, о нападениях на их штабы.