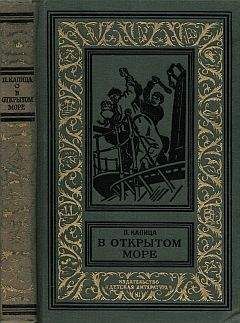От хребта шли грузовики с лесом и дровами. Вверх, в горные промыслы, колоннами бежали автомашины с буровым инструментом, трубами, продовольствием!. Скрипели и стучали настилы мостов, сделанные еще саперами. Под баллонами тяжело нагруженных многотонных машин в мягком грунте выдавливались колеи довоенного грейдера.
– Нефтепромыслы восстанавливают, – сказал учитель, – ведь нефть-то какая здесь! Авиационные сорта бензина вырабатываются из кубанской нефти! Говорят, уже пошла снова нефть на Кура-Цеце и Асфальтовой горе…
– Больно быстро! – возразил мужчина в нанковой куртке. – Скважины здорово забивали при отходе.
– Кто забивал скважины?
– Мы, нефтяники. Немцы ни одного килограмма нефти не сумели взять. Мы каждый промысел окружили, и чуть что – налет, разнесем, и снова в лес.
– Не допускали, стало быть?
– Не допустили.
Впереди горы. Стойкие облака увеличивают их: кажется, хребет наполовину засыпан пухлым снегом.
Вот яворы со свернутыми парусами, как мачты. Машина бежит между ними, а по обеим сторонам тополевой аллеи обшарпанные войной домишки родной станицы.
Автобус останавливается невдалеке от санатория. Памятника Ленину нет. Чьи-то варварские руки зубилом срубили с гранита слова посвящения.
Здесь происходили испытания первого трактора. В ту пору я не превышал ростом штакетника, а теперь штакет забора мне чуть повыше пояса. Крыша клуба провалилась от пожара.
– Не узнаёте родные места, товарищ гвардии капитан? – спросил шофер.
– Не узнаю.
– Так и мы возвращались. Не узнавали, кручинились два дня, а потом принялись наводить прежний порядок. Залечим, товарищ гвардии капитан. Найдется стрептоцид на любую болезнь.
Мать не писала, цел ли наш дом, и свои письма я посылал по нашему старому адресу. Я попрощался с шофером и пошел к дому. В моих руках был чемодан, а в нем – паек по аттестату и ивановский ситчик, купленный в Лисках, – подарок маме.
Как страшно вдруг увидеть пустоту между деревьями на том месте, где стоял родительский дом! Вначале я не поверил глазам – может быть, ошибся? Может быть, попал не на ту улицу? Но вот висит ржавая жестянка номера на единственном столбе у ворот; вон старая груша в задах огорода, виноград, упавший на разбитую печь-летник. Мальчишки палками сбивали незрелые плоды с наших яблонь. Между деревьями паслись козы. Бешекюка, обсыпанная тюльпанными цветами, прикрывала фундамент.
– Да не Лагунова-председателя вы сынок? – раздался позади меня женский участливый голос.
Я обернулся и увидел незнакомую пожилую женщину, которая жалостливо рассматривала меня.
– Да, Лагунова, – ответил я. – Не скажете ли вы, где сейчас живет Антонина Николаевна?
– Ваша мама?
– Да.
– Пойдем, пойдем, я доведу. – Женщина пошла через улицу, смело ступая по колючкам босыми огрубевшими ногами. Живет ваша мама у Неходихи – Виктора, вашего друга, мамы. Ой, какие типы гитлеровцы, вот типы! Потерзали нас, потерзали. Вот чуткие типы! А вы, мабудь, Сережа будете?
– Колечку-то вашего жалко. Смирный был паренек. Вы-то на виду, а Колечка ваш смирный… Только и видим – с выпаса не выходит. То с конями, то с козами. В дудочку играет один…
– А что с Колей? – нетерпеливо перебил я.
– А вы… – женщина спохватилась, – ничего не слыхали?
– Он пропал в сорок первом – на Дону.
– Убитый ваш Коля, – женщина остановилась, – убитый… На Украине убит. Письмо прислали. И могилку расписали и погребение. Там блюдут могилку добрые люди… Вот и дошли…
Женщина оставила меня у калитки. Домик, где жили Неходы, стоял близ горы. Ручей протекал у подножья ее по неглубокому овражку позади дома, окруженного ореховыми и персиковыми деревьями. Старая айва росла прямо у окон.
Никого не увидев во дворе и за деревьями, я открыл калитку, пошел по дорожке. Цветы золотого шара поднимались вровень со мной. Под ногами лежали обмытые дождями сланцевые плиты. Две утки булькали желтыми носами в корыте; на деревьях пели птицы. На крыше в накат сушились фрукты. Медовый запах сушки напомнил мне о Викторе: всегда, забегая к нему, я ощущал этот пряный запах.
Я остановился у айвы. Какая-то женщина показалась у окна, вгляделась в меня. Через минуту на веранду поспешно вышла маленькая, сухонькая мать Виктора. Она, узнав меня, заторопилась и приникла лицом своим к моим ладоням. Я ощутил теплоту ее слез. Ее натруженные руки сжимали мои. Мне хотелось успокоить се, но слов не находилось. Я нагнулся и прикоснулся губами к ее платку, волосам-, морщинистой щеке.
Мы сели возле дерева на лавке.
– Как, у него была шинелька-то? – спросила она таким озабоченным тоном, будто этот вопрос больше всего мучил ее.
Я сказал, что тогда еще было тепло и мы обходились без шинелей.
– Под Сталинградом было вьюжно, вьюжно, – говорила она, – нам привозили кино, показывали. Ой, какая там была вьюга!
Скрипнула калитка. По дорожке палисадника шла мама.
Вот она увидела меня, остановилась. Солнечные пятна от листвы легли на нее. Я видел выбившиеся из-под платка совершенно седые волосы матери. Я бросился к ней. Мама не плакала, но все ее исхудавшее тело дрожало, и я ощущал этот трепет сдерживаемого волнения. Мама была такая маленькая, такая обиженная и строгая. Хотелось взять ее на руки и унести куда-то далеко-далеко, где нет проклятого цепкого горя.
Ее руки ощупывали меня – шею, щеки, волосы, руки. Она будто не верила, что я вернулся и она, наконец, не так безжалостно одинока.
Слезы вдруг хлынули из моих глаз. Я обнял мать, как часто делал в далеком детстве, и почувствовал соленый и сладковатый привкус крови от прикушенных губ.
А глаза матери были сухи. Ее душевные силы оказались попрежнему выше. Она, старательно подбирая слова, размеренно и строго сказала:
– Ты стал большой, хороший… Тебе было трудно, Сережа. Трудно, Сережа. Успокойся, успокойся… Так не надо, мой Сереженька, не надо…
Она заставила меня снять гимнастерку и сапоги. Когда я умылся, она подала мне отцовские ночные туфли, сшитые им из шкуры дикого козла.
– А где же отец, мама?
Мать подняла глаза.
– В Крыму, в партизанах… Приезжал человек в станицу от Стронского, ты его знаешь. Тогда отец был жив, а сейчас… не знаю.
– А Анюта?
– Угнали… Последний раз видела ее на погрузке в Анапе.
– А Люся?
– Тоже угнали… вместе с Анютой. – Мама задумалась, встрепенулась. – В комнате неуютно, Сережа. На дворе летом лучше. Ты уж извини, что принимаем у дома.
Вскоре задымил самовар. Запах древесных углей смешался с запахом сушеных фруктов. Я открыл чемодан, вынул консервы, печенье, сахар, хлеб, шоколад.
– Возьмите, мама, это вам.
– А тебе? В дорогу?
За чаем я узнал, что наш дом сжег Сучилин, ставший по возвращении в станицу кем-то вроде помощника военного коменданта, так как станица была прифронтовой и немцы гражданскую власть не назначали.
Перед отступлением, когда от Волчьих ворот прорвалась морская стрелковая бригада, Сучилин сжег десятка два домов, облив их бензином из опрыскивателя «вермореля», употребляемого обычно для борьбы с табачной филоксерой. Случайно остался нетронутым только дом Устина Анисимовича. Сейчас там контора по заготовке лесных фруктов.
– Как же вы жили, мама?
– Приказали мне каждый день в девять утра отмечаться в комендатуре. Каждый день все мы часами стояли у дверей. Полгода – изо дня в день, – мама сжала губы, отвернулась. – А в последнее время… станицу обстреливали с гор наши пушки. Немцы прятались, а мы стояли…
– А кто сейчас в колхозе председателем, мама?
– Бывший бригадир первой полеводческой. Ты его знаешь – Орел Федор Васильевич. Вернулся. Ранен в руку, и в голове осколок. Хозяйствует, но ждет отца…
Я попросил маму рассказать о Николае. Она молча встала, сгорбилась, ушла в дом и принесла отцовский бумажник, вынула из него письмо.
– От хорошего человека с Украины. Нашла-таки я могилку Николая… – Она подала мне письмо.
На линованной бумаге крупным! усердным почерком было написано:
«…Мы ваше письмо получили 23 июня, в котором вы просите, шоб я рассказав, когда он, ваш сынок Николай, убитый. Он убитый 6 сентября 1941 года, похоронен 9 сентября. Трое суток писля боя лежали в поле убити, пока герман вперед ушел. Некоторых подбирали, и адресов у некоторых не було, ну, а у вашего адрес був. А бамах нияких не було, вже хтось карманы потрусив.
Братскую могилу сделали хорошую над шляхом, выкопали яму, звезли 20 человек бойцов, уси молоди, наклали соломы в яму, положили усих в яму, потом закрыли лица шинелями, опять тогда соломы и закидали землей и сделали могилу. Огорожена зараз красным щикетом, там скотина не топчет, нехто не заходе. Кажду весну приходят бабы и плачуть, и могила вся в порядке.
До свидания.
Нестор Романович Птаха».
Бедный Коля! Тихим и незаметным рос он в нашей семье и так же незаметно ушел туда, откуда нет возврата. Учеба давалась ему нелегко. Николай больше всех нас пристрастился к крестьянскому труду и искал такую работу, где можно было оставаться в одиночестве. Он не выходил с выпасов, дичился сверстников… А может быть, были виновны мы: не пригляделись к нему.