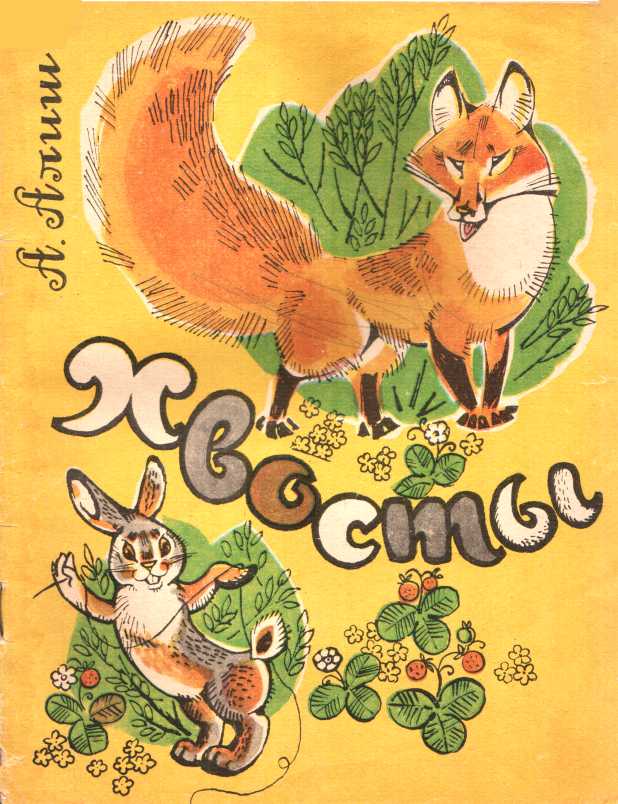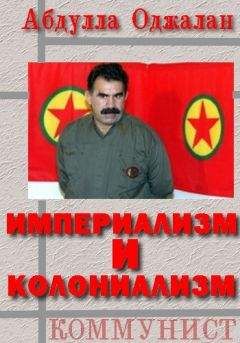прелыми корнями – дух прели был слабым, далеким, – и еще пахло мышами. Обычными русскими мышами, каких в Афганистане нет, но пахло именно ими, полевыми мышами России, которых выковыривали осенью из-под корней картошки вместе с гнездами, когда все, даже школьники первых классов выходят на уборку, поля бывают пестрым-пестры от множества платков, блузок, кофт и рубашек. Есенков улыбнулся этому запаху – на какой-то краткий миг этот запах вернул его в детство, которое каждый человек непременно хранит в себе, сколько бы лет ему ни было.
На улице раздался очередной выстрел – Есенков его уже пропустил мимо себя, не засек – стрельба на него теперь действовала от обратного, как некая успокоительная мелодия, ребята, видя, что он ушел из дувала, сами предпринимать ничего не будут, они станут ждать его. Все теперь зависит от действий Есенкова. Пусть стреляет душок, пусть тешится – хуже будет, если он что-то учует и прекратит стрельбу, и уж самое худое будет, когда вновь наступит полая звонкая тишь, в которой слышно, как бьется сердце.
Канаву Есенков прошел быстро, прополз по плоской, выжаренной до каменной твердости равнинке, укрылся за земляным нарывом, схожим с грыжей, замер, слушая пространство, дувалы, дома, душманов, землю, небо – небо особенно пристально: не раздастся ли грохот «вертушек»? – потом двинулся дальше, углубился в довольно густые незрячие кустики, покрытые пылью, минут через десять оказался на краю кишлака.
По красной, косо сваливающейся вниз, в долинку, дороге бегали пылевые султанчики, сизая искристая глубина находилась в движении, в ней что-то перемещалось клубами, уходило вверх, в воздух, вспыхивало и гасло, дышало, растворялось в небе, – в этой недоброй долинке резвились черти! Не иначе! Есенков пропустил мимо себя очередной выстрел, засек следующий, отплюнулся, потом, набрав в грудь воздуха, скатился чуть вниз, в лощинку, низом перебрался на ту сторону дороги, двинулся вверх.
Стрелок, расположившийся на крыше, был отсюда хорошо виден – крыша имела небольшой накат, плоско сваливалась в одну сторону, душман расположился на ней вольно, с удобствами, знал, что из автомата его не снять. Есенков сжал зубы: ну, Спирин! «Одно только может тебя оправдать, солдат, – ранение. Твое счастье, Спирин, если тебя где-нибудь зацепили, либо ты столкнулся нос в нoc с душками – ты один, а их трое – только тогда ты будешь прав. А в остальном…» – Есенков погасил в себе приступ. Вдруг действительно со Спириным произошло что-нибудь непоправимое, вдруг его засунули в мешок или утянули в кяриз? Вот тебе и остальное!
Рядом со стрелком лежала раскрытая железная коробка, полная солнечных зайчиков – патроны отблескивали слепяще остро, смотреть на них было больно. Палить душман мог еще долго – коробка опорожнилась только на одну треть.
Приподняв локоть, не боясь никого, душман передернул затвор, послал в ствол новый патрон и, почти не целясь, выстрелил – вершил правое дело, был у себя дома, а где были сейчас они, Есенков, погибший Володька Линев, живой Мирза Фатахов, мертвый Крыгин? Тот, кто позвал их сюда на помощь, должен разобраться во всем и отпустить их домой. С миром, с цветами, с улыбкой, погибших проводить салютом и отдать последние воинские почести…
– Но прежде чем грохнет заключительный салют с объявленным финишем, надо сравнять счет. – Есенкову неожиданно сделалось обидно, что он остался один, без прикрытия, лицом к лицу с душманами, которые побегут на него широким валом, как только он снимет стрелка… На войне человек часто остается один, хотя рядом бывает много людей, и уж умирает он точно один, кто бы ни лежал к нему впритирку.
Плоской, изрытой норами тропкой Есенков пополз вперед. Метрах в тридцати от крайнего дувала природа создала маленькую крепость – очень выгодную позицию: там на дорогу угрюмо смотрели ноздристые, иссосанные солнцем и ветром камни. Камни те были вытолкнуты на поверхность земли глубинной массой – вполне возможно, за ненадобностью, либо же наоборот, погружались, врастали в рыжую неласковую плоть, пройдет какое-то время – годы, десятилетия, и они вообще скроются в глуби. Под прикрытием этих камней держаться можно долго. Лишь бы патроны были, да харч кое-какой, чтобы на зубах не было пусто, но главное все-таки – это патроны.
К тем камням и пополз Есенков. Стрелок вновь оттопырил локоть, передернул затвор – движения его показались Есенкову неряшливыми, неточными, сразу видно – не специалист, мажет, суетится – выстрелил и попал в белый свет. Плохой инструктор был у этого человека. «И хорошо, что плохой, – спокойно подумал Есенков, – был бы хороший – тогда бы на улице не двое наших лежало, гораздо больше. Я бы, например, лежал – точно бы лежал, ведь первым должен был пойти по списку, это душок лопухнулся, – о себе самом Есенков рассуждал, как о ком-то постороннем, – хорошо, что у тебя, приятель, был плохой наставник»…
Есенков вполз на пригорок, откуда уже просматривалась часть улицы, увидел, что на земле лежат не двое, а уже трое. Из-под панамы у Есенкова густо полил пот.
«К-как же так? Как? Кто же это? – прошептал он, губы у него были серые, с прозрачной потрескавшейся кожей, чужие. – Кто? Кок? Толмач? – нехорошо покривился лицом, засек табачный дым, запах и насторожился; а не облюбовали ли уже душманы те камешки? Если облюбовали, то все – Есенкову от них не уйти. Сволочи, вон как табачище смолят. Небось, американский табачок, какой-нибудь «салем» или «уинстон» – сигареты первого класса. Он не успел испугаться – сработала солдатская привычка оставлять испуг напоследок, многие и умирают, так и не успев испугаться, – прикинул только, успеет откатиться назад или нет, если из-за камней высунется вороненый ствол, спокойно отметил, что нет, в следующий миг увидел земляную выковырину, похожую на пепельницу, густо набитую окурками. Вон оно что, оказывается – собрались тут душки на тайную свою вечерю, каждый с собственным куревом, – обсуждали жизнь свою, прогнозы строили, в сторону Пакистана поглядывали…
А ведь недавно, совсем недавно были тут душманы, окурки еще свежие, каждый свой дух сохранил – пахли остро, дразняще, как-то очень мирно. Есенков рывком одолел «пепельницу», на ходу выгреб окурки носком из углубления и через минуту достиг камней.
Кто же еще попал под пулю стрелка, кто? А стрелок старался, бил и бил из карабина, некрасиво оттопыривая локоть и беспрерывно работая затвором, нервно дергал ногами, ездил по крыше. Нехороший человек. Впрочем, это только казалось Есенкову, что нехороший, a на самом деле – такой, как все душманы – обычный. С такими же, как и у всех страстями и желаниями, с болью и сомнениями, с такой же, как и у всякого человека начинкой – то же сердце, те же легкие,