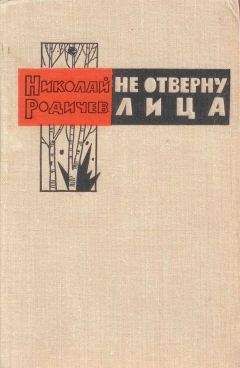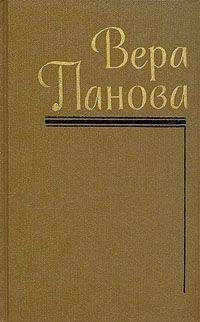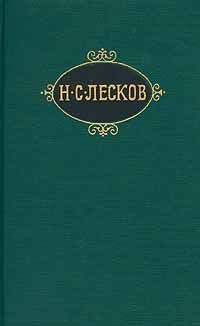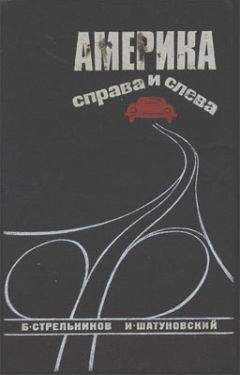Раньше думалось о побеге. Лучше бы — до самой Германии... Но путь этот казался не менее страшным, чем прозябание в русском плену, в Сибири. «Если не расстреляет Бюттнер, настигнет Маркиан Белов. Не алтуховцы, так севцы, не белорусы, так украинцы, не чехи, так поляки... Разъяренная Европа — красная, зеленая, голубая — хоть и опутана черными линиями, как веревками, живет, не сдалась».
Густав вспомнил, как во время одной вылазки в лес, когда их взвод подошел к оврагу и часть солдат, помогая друг другу, полезла вверх по скользкому склону, на них обрушилась гигантская сосна. Стройное дерево, гордо простоявшее у края оврага добрую сотню лет, тяжело скрипнуло на срезе и покатилось вниз. Двух убило насмерть, одному корявый сук сорвал с лица кожу.
Падение дерева на головы солдат произвело тогда удручающее впечатление. Но разве. Густав поверил бы кому-нибудь прежде, не изведав сам, что здесь все поднялось против нашествия чужеземцев, природа и люди действуют в полном согласии.
Артц прямо заявил Густаву, что он не знает, как пойдет дальше война, но уверен в силе русских. По крайней мере, его, Артца, могут спасти только русские...
Ничего подобного не толковал даже профессор Раббе. Никогда в истории войн не случалось, чтобы враг выступал в роли спасителя тех, над кем одержал с кровавыми усилиями победу...
...И после всего этого ему предлагают идти в Лотню с запиской коменданту гарнизона...
— Поймите, Мюллер, вас отпускают к своим, домой, — разъясняла Валя. — Передайте записку своему коменданту — и все.
«Все! — думал Густав. — Неси сама, если такая умница!»
Густаву давали время подумать. Но на войне и на это устанавливают сроки. Когда его привели для окончательного ответа, заявил решительно:
— Нет, господин обер-лейтенант, я решил не возвращаться, если вы мне позволите это сделать.
Данчиков помрачнел, глядя в напряженное лицо Густава, когда тот произносил, словно клятву, свои слова об отказе возвратиться в Лотню. Сапронов и Валя обменялись насмешливыми взглядами.
— Шкуру бережешь, солдат? — сурово спросил Данчиков.
— Нет, душу, господин обер-лейтенант, — возразил Густав. — Мой отказ возвращаться в гарнизон означает для меня нечто большее, чем боязнь расплаты за плен. — Он помедлил немного и закончил: — Мне нужно закончить свой разговор с пленными, что в яме...
Данчиков вздохнул:
— То — долгий разговор...
Густав согласился:
— Артц — это тоже для меня минное поле сейчас...
— Вы не дурак, Мюллер, — без особой радости отметил Данчиков. — Но, если сказать начистоту, для меня было бы лучше, если бы вы прозрели позже.
— Я вас понимаю, господин обер-лейтенант, но записку все же лучше бы передали ваши люди, если она чего-нибудь стоит.
Старший лейтенант скривился от этих слов, как от зубной боли, и стал почесывать затылок. Потом он произнес, обращаясь к штабным:
— Ну что ж, самим так самим. Третий немец отказывается возвращаться к своим...
Валя и Юрий начали тут же обсуждать предстоящую операцию. Они словно забыли о Густаве, который не очень-то понимал смысл необычного послания партизан к Бюттнеру.
Чтобы как-нибудь сгладить неприятное мнение о себе, Густав сказал, уловив паузу в их разговоре:
— Если господин обер-лейтенант позволит, я мог бы кое-что напомнить о привычках Бюттнера...
— Спасибо, — отозвался Данчиков холодно, — к вам на пост нашли дорогу, отыщем я к Бюттнеру.
Густава отвели в соседнюю избу на ночлег. Разведчики начали готовиться к ночной вылазке.
Так они просидели до сумерек, пока в штаб не заявилась девочка-подросток с полупустой холщовой сумкой через плечо, с закутанным до глаз лицом, в длинной старушечьей юбке. Она присела у порога, обхватив колени руками, и пискливым голоском проговорила:
— Господин комендант просили передать, что будут эту ночь ночевать дома, потому как погода нынче — не до прогулок, завьюжило... О-ой, как завьюжило, сердешные!
Размотав тяжелый старушечий платок с головы, Митька швырнул его на середину комнаты и заорал во всю ребячью глотку:
— Включай радио, Валька! Немцев расколошматили под Москвой!..
В сумерки пришел Полтора Ивана, который встретился с Пуниным. Он подтвердил вести из Москвы.
3
Сквозь сон Густав расслышал громкий шепот снизу:
— Эй вы... кто там поближе! Поднимите крышку, если можно...
Фельдфебель Макс Герлих, обычно не принимавший никакого участия в полемике между солдатами и вообще переносивший неволю с болезненной замкнутостью, откликнулся первым на зов Оскара. Он подполз на четвереньках к двери, приложился ухом к порогу и, не услышав снаружи шагов часового, кинулся к подвальной крышке. Солдаты знали, что ржавый замок на петле не запирается, висит «для присловья», как говорил Евсеич.
Оскар, поднявшись из подвала, начал с остервенением пинать ногой спящих немцев. Он весь дрожал, охваченный жаждой действия. Грубо тронув Густава за рукав, приказал:
— Русские избы, как я заметил, запираются изнутри. А ну-ка пронюхай, как оно на самом деле? — Оскар присвистнул на Густава, как на собаку.
Густав не осмелился противиться офицеру, хотя в душе не верил в его затею с побегом. Оскар будто догадался об этих сомнениях солдата.
— Сядь. Сам погляжу. Дураки, кто вам доверяет.
Он действительно распахнул дверь и исчез в сенях. Возвратился сразу. Зажав рот, словно оттуда рвался крик изумления, он прошелся гусем на носках по комнате и зашипел, ликуя:
— Спит, понимаете? Спит!
Немцы начали готовиться к побегу. Если бы не медлительность Артца, впрочем достаточно понятная для Густава, они были бы готовы в путь через несколько минут. Но с Артцем случилось что-то невероятное: он мычал, стонал во сне, никак не реагировал на толчки. Фельдфебель ухватил его за ноги.
Догадавшись, что Оскар не остановится перед крайними мерами, Густав взял с пола замок — единственный железный предмет в избе. Офицер свирепо распорядился:
— Бей в висок!
В сенях было темно. Лишь яркий пучок света от зимнего месяца, проткнувшийся где-то сверху, под самой застрехой, немного разжижал темноту. Узенькая белая полоска падала на всклоченную бороду сидящего человека. Часовой опустил голову на руки, скрещенные на цевье винтовки.
Густав сразу узнал партизана: это был тот самый дедок, что повстречался на санной дороге, когда Густава вели обратно в штаб от места казни бирманского «короля» Мартина Греве.
Шапка задремавшего старика чуть сползла набок, обнажив сильно оттопыренное ухо и реденький клочок волос. Седые волосы тихо вздрагивали от биения пульса под морщинистой кожей на виске.
Густав понимал, что Оскар кинется ему «на помощь».
С презрением взглянув на безмятежного Евсеича, он изо всей силы ударил... по прикладу винтовки носком сапога. Часовой клюнул носом, крякнув спросонья, и матерно выругался. Густав сжался, отскочил, ожидая ответного удара прикладом. Это было бы вполне оправданной реакцией полусонного часового на такую выходку пленного. Но старик понял все. Закрывая за собой дверь, Густав услышал шепелявые слова Евсеича:
— Спасибочки, господин... Благодарствую, товарищ...
На пороге его встретил Оскар. Сцепив зубы от досады и гнева, он резко ударил Густава по щеке. Густаву приходилось видеть и раньше рукоприкладство в германской армии. Офицеры избивали солдат за всякую провинность. Но оскорбление ударом здесь... в плену... не от партизан, которые имели право не только бить, а и убивать... Удар от фанатичного Оскара... О-о! Это слишком!
Оправившись от смятения, Густав словно впервые почувствовал вес зажатого в руке замка и с размаху опустил его на голову Тиссена. И тут же он сам отлетел в угол, сбитый с ног фельдфебелем. Падая, Густав видел, как метнулось во тьме тело «спящего» Артца. Однополчанин уложил фельдфебеля рядом с Оскаром, помог подняться Густаву. Вскоре фельдфебель заныл, прося пощады, и даже помог Артцу и Густаву спровадить Тиссена через дощатый люк на отведенное ему партизанами место.
4
В канун Нового года природа могла быть довольна своей работой вполне: в белоснежном убранстве стояли леса, мельчали буераки, засыпанные снегом, беспробудным сном спали поля и реки, даже деревья-великаны не казались такими высокими, как летом. Но зима, словно не веря сама себе, добрая и уставшая от великой работы, сыпала сверху редкие снежинки-конфетти. Хотелось ловить эти хлопья губами. Однако надетые на руки тяжелые рукавицы, топот десятков ног, строгие окрики конвойных напоминают о суровой действительности.
Идя с лопатой на плече к партизанскому аэродрому и наблюдая за спокойным падением снега, Густав вспомнил свое детство, новогоднюю елку, улыбчивую мать и конфетти, которое очень напоминало нынешние хлопья снега... Почему-то все чаще вспоминалась не тетушка Элизабетт, а мать, почти вытравленная из памяти усилиями чужих людей. Если бы можно было начать все сначала? Если бы можно было прикинуться маленьким Густавом и проснуться на руках матери — пятилетним, восьмилетним...