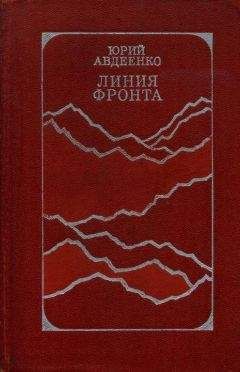— Там вашу подругу понесли, — сказал он. И добавил: — Любу.
Галя рывком сняла наушники, взглянула на командира.
Он кивнул: разрешаю.
Галя выскочила из подвала и побежала вдоль берега, не пригибаясь.
— Эй, вы! — кричал ей вслед Самородов. — Берег простреливается!
Раненые лежали за фундаментом разрушенного здания. Санитары, соблюдая очередность, клали их на носилки и несли на катер. Любаша лежала самой крайней. Лицо белое, ни кровинки.
Санитар сказал:
— Еще двух на катер можно.
— Возьмите ее, — взмолилась Галя.
— Очередь тута, — сказал санитар. — Порядок. Значит… тута здоровых нет.
Галя хотела поднять Любашу, но та тяжело застонала, и Галя поняла, что ей не донести раненую на руках и тем более не подняться на катер по шаткому узкому трапу.
Она подошла к пожилому санитару и, положив руку на плечо, сказала:
— Возьми ее… Она же девушка. Ей еще не исполнилось девятнадцати.
— Девушка, парень… Все одно — солдаты. Тута многим девятнадцать годов не исполнилось. Тута все молодые.
Лицо у пожилого санитара было безучастное, не лицо, а маска.
— Я прошу вас…
Галя уже не сдерживала слез.
Моряк, что сидел у стены, раненный в голову и в левую руку, вынул из кобуры пистолет и закричал надрывным голосом:
— Застрелю, падла! Клади на носилки девку! Слышишь?!
Подействовало!
Галя провожала носилки до самого катера. Спросила пожилого санитара:
— Куда ее?
— В ногу.
— Опасно?
— Нога есть нога. Какая тута опасность… Худо то, что она, видать, кровушки много потеряла. Ето худо…
Матросы с катера подхватили носилки. И они ушли вверх, зачернив небо. А потом хлестнула волна, катер накренился. Галя увидела палубу и матросов с носилками в руках. Они держали их бережно и стояли на ногах крепко.
Галя решила поблагодарить раненного в голову и в руку моряка. Он сидел на прежнем месте, откинувшись спиной на старый, потрескавшийся фундамент.
Наклонившись, Галя сказала:
— Большое вам спасибо. Она моя подруга. У нее парня в Туапсе убили. Зенитчика. Она за него мстить по…
Галя не кончила. Она поняла, что моряк мертв.
1
— Сады зацветут завтра, — сказала баба Кочаниха.
Степка подумал, она шутит. Но ни улыбки, ни иронии не было на ее вспотевшем, покрытом порами лице. Прислонив к дереву лопату, черенок которой из-за долгого пользования блестел, как лакированный, она вытерла лицо широким застиранным фартуком. И добавила:
— Позорюй утром. Увидишь…
Ломти развороченной земли у ее ног, не очень темной, а сероватой, пахли теплой сыростью и молоком. Короткая, светло-зеленая трава островками была раскидана по саду. Они были самой разной формы, эти островки, и самых разных размеров.
— Слыхал? — сказала баба Кочаниха. Ей, кажется, надоело окапывать деревья. И она была рада, что Степка подошел к забору, изогнувшемуся, точно дуга, и завел этот пустой разговор. — Слыхал?.. — Она повторила, сделала паузу. Сощурилась.
— Не слыхал, — ответил он.
— Моему деду вчерашнего дня орден вручили. Красной Звезды.
— Хорошо. Орден Красной Звезды — хороший орден.
— Дед заслужил его.
— Честно заслужил. Дед смелый.
— Он шибко смелый, — сказала баба. — Ничегошеньки не боится. Особливо, если выпить надумает.
— Ему виднее. У него запросы… Он столько лет прожил, во всем разбирается.
— Сколько лет… Мудрость, Степан, в голове, а не в бороде.
— Я про это уже слышал.
Баба Кочаниха вздохнула. Потянулась неторопливо к лопате.
Степка пожаловался:
— От Любаши нашей второй месяц письма нет.
— Затерялось, может?
— Погибла Любаша…
— Типун тебе на язык!
— Сон мне снился… Нехороший.
— Расскажи, — насторожилась баба Кочаниха. И выпрямилась…
— Маки красные снились. Любаша среди них дурным смехом смеялась… Ну словно вина выпила.
— К болезни это. К ранению… А больше ничего не снилось?
— Снилось. Да я позабыл… У меня всегда, что ни снится, ничего не помню. А на этот раз глаза у Любки нехорошие были. И смех какой-то дикий…
— Матери не говори.
— Я не сказал.
— Сны, Степан, они не каждый раз сбываются. Они тогда верны, когда от предчувствия приходят.
— Тоска тоже от предчувствия?
— Тоска, она сама по себе. Она от срока. Не видишь долго близкого человека, родного. И затоскуешь тяжко-тяжко…
— А предчувствие?
— Предчувствие — другое… Это, значит, господь бог знак дает.
— По-старому вы объясняете, — обтекаемо сказал Степка. Не возразил, что бога нет (не хотелось обижать добрую старуху). Но и не согласился.
— Не все старое — плохое… Новое, оно тоже боком выходит. Самолеты, бомбы… Раньше саблями дрались — и все! Сколько ныне молодежи сгинуло, так ничего и не повидав. Одно и утешение, что исстари в народе говорят: не тот живет больше, кто живет дольше.
Глаза бабы Кочанихи замокрели. И она опять поднесла фартук к лицу.
По улице с горы спускался старик Красинин. Маленький, щупленький, он нес цинковую выварку, пробитую в нескольких местах осколками. Солнце попадало на выварку, и дырки светились, точно глаза.
Степка не удержался:
— До сих пор по развалинам шныряет. И все в дом тащит, в дом…
Баба Кочаниха повернула голову:
— Из собаки блох не выколотишь.
2
Тетя Ляля прислала письмо. Она прислала его на имя Беатины Казимировны Ковальской. И хотя вскрывать чужие конверты неприлично, Нина Андреевна прочитала письмо. И правильно сделала.
Степка не помнил, какими словами и о чем писала тетя Ляля, но, во всяком случае, она обещала вернуться в Туапсе в самом скором времени. Таким образом, им предстояли новые хлопоты. Нужно было заботиться о жилье.
Смекалку проявила Нюра. В ней очень сильно сказалась практическая жилка. Теперь это была совсем не та сельская девочка, которая наивничала в Георгиевском. Она немножко подурнела с лица, осунулась, и взгляд у нее стал ржавый и цепкий, точно колючая проволока.
Обещания, которые Нюра давала Софье Петровне, — слушать и почитать старших, оказались пустыми, как выбитые окна. Работая буфетчицей, Нюра ухитрялась доставать продукты, минуя строгий карточный учет. Теперь у нее всегда были деньги и хорошая одежда.
Мать Степана, Нина Андреевна, денно и нощно плакавшая о Любаше, только и могла укорять Нюру обычными, заношенными фразами:
— Зачем же так, Нюра? По-честному жить надо. Заберут ведь. И строго судить будут.
Пересыпая вещи нафталином, Нюра деловито отвечала:
— Чему быть, тому не миновать.
Прослышав о письме тети Ляли, Нюра находчиво сказала:
— Давайте ваш дом из развалин поднимать. Время пришло.
— Ты о чем? — не поняла мать.
— Я возьму себе квартиру Ковальских, а вы — свои комнаты… Для начала грязь вычистим, а то полы совсем погниют. Крышу поставим…
— Чем крыть, Нюра? Дранки днем с огнем не достанешь.
— Про это не печальтесь, — с верой в собственные силы ответила Нюра. — О крыше я позабочусь. А Степан все равно без дела болтается, пусть по заброшенным дворам походит. Досточек насобирает. В день пять-шесть досок принесет. А за месяц сколько наберется…
— У меня гвоздей целая банка, — похвалился Степка. — Я как где гвоздь увижу, щипцами его — ив банку.
— Правильно. Гвозди пригодятся. А ты, Степан, завтра в одиннадцать часов в буфет приходи. Мне морячки ведро белил притащат.
— Он не донесет, — вступилась мать.
— Не торопясь. С передыхом…
— И зачем нам ведро белил? — развела руками мать.
— Ну если останется — не забота, на что-нибудь обменяем.
Так было принято решение — восстановить старый дом. Дня через два, собрав вырезки из газеты, где описывались геройские подвиги мужа, и прихватив недавнюю фотографию Ивана Иноземцева (он был на ней уже с четырьмя орденами), Нюра отправилась в военкомат. Она пробыла там не больше часа, а вернувшись, гордо объявила:
— Дранка будет. Привезут в среду…
Машины не могли взбираться на их улицу. И дранку привезли на телеге. Правое заднее колесо возница намертво прихватил цепью. И оно не вертелось, как остальные три колеса, а вдавливалось в землю, оставляя след, подобный лыжне. Дранка была короткой, светло-коричневого цвета и хорошо пахла дубом. Она лежала на телеге не в беспорядке, а связанной по сотням тонкой зачерневшей проволокой.
— Дяденька, для чего вы так колесо замотали? — спросил Витька Красинин. Он с восхищением смотрел и на телегу, и на дранку, и на возницу — рябого хмурого мужчину с надрывным голосом.
— Это тормоз… Колесам завсегда тормоз полагается.
Женщины были еще на работе. И Степке пришлось самому таскать дранку в дом. Витька Красинин рвался помочь, но вязанки с дранкой оказались ему не по силам.