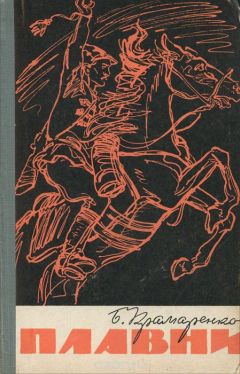— Это я, Зинаида Дмитриевна, Тимка Шеремет… Учительница была почти разочарована. Она боялась свидания с Сухенко и в то же время страстно желала этого свидания, все еще надеясь на что–то, ожидая чего–то. Зинаида Дмитриевна пошла отворять дверь, но на пороге вынуждена была остановиться. Отвратительная тошнота подступила к ее горлу, болью заставила сжаться сердце.
Когда наконец она вышла во двор, Тимка уже потерял надежду достучаться и стоял возле крыльца. Уходить, не выполнив просьбы Сухенко, не хотелось, оставаться же дольше во дворе школы было опасно, — на улице прохаживался часовой, который каждую минуту мог поднять тревогу. Тимка нащупал в темноте деревянную кобуру маузера — подарок Петра — и две английские бомбы–лимонки, висевшие на поясе. Он настороженно прислушался. «Словно хорь у курятника, всего боюсь…» Увидев, что дверь отворилась и показалась учительница, быстро поднялся на крыльцо и молча прошмыгнул в коридор мимо Зинаиды Дмитриевны. В комнате Тимка достал зажигалку и помог учительнице зажечь лампу. Потом они взглянули друг на друга. Некоторое время никто из них не отваживался заговорить: Зинаида Дмитриевна волновалась, думая, что Тимка прислан Сухенко с какими–то важными вестями, а Тимка боялся спросить о Наталке. Наконец заговорила учительница:
— Зачем ты пришел? Ведь тебя могут поймать.
«Зачем она это говорит? — подумал Тимка. — Лучше напоила бы горячим чаем… А ведь она тяжелая ходит!..» — решил он, взглянув на ее округлившийся стан. Это изумило его. Он достал из–за пазухи зеленый конверт и протянул его учительнице.
— Вот полковник передал… — и, видя нерешительность учительницы, добавил: — Если меня поймают, я вас не выдам, не бойтесь.
Но Зинаида Дмитриевна уже схватила письмо дрожащими пальцами. Торопливо вскрыв конверт и забыв про Тимку, она жадно забегала глазами по строчкам, шевеля по–детски губами.
Сухенко писал о постылой жизни степных бродяг, о своей тоске и предстоящем на днях отъезде в Крым. От всего письма веяло опустошенностью. Зинаида Дмитриевна села к столу и перечитала письмо. Перечитала и поняла, что ей не на что уже было надеяться и нечего было ждать. Она даже не заплакала, но в груди у нее что–то оборвалось, стало как–то пусто, как бывает только, когда теряешь близкого, родного человека.
Тимке хотелось, чтобы учительница заговорила с ним о Наталке. Тогда удобно было бы попросить ее передать Наталке письмо, лежащее у него за пазухой. Но учительница, охватив голову руками, тоскливо молчала, и Тимке захотелось уйти. Ему стало стыдно, что за последние месяцы в его заботах и думах мать занимала лишь небольшое место. «Какая она теперь? Верно, постарела совсем…» — с грустью подумал Тимка.
Тихая, болезненная, мать его была незаметной в семье. С тех пор как Тимка окончил казачье четырехклассное училище и брат подарил ему по этому случаю кинжал и казачью одежду, он стал считать себя взрослым, дичился матери, грубо обрывая ее ласки, считая стыдным для себя, уже взрослого, показывать свою привязанность к ней. Теперь же ему захотелось пробраться домой и, уткнув голову — как когда–то в детстве — в материнские колени, выплакать свое горе, свою тоску, что жерновом мельничным лежала на сердце. Ведь ей сейчас тоже, должно, не спится… стоит, верно, в углу на коленях перед потемневшими от времени иконами, в слабом мерцающем свете лампады, шепчет молитвы и кладет усердно поклоны, а по преждевременно поблекшим морщинистым щекам текут бусинками слезы. Он взглянул на Зинаиду Дмитриевну и, увидев, что та пишет ответ, подумал: «Пусть. Полковник рад будет».
«…Я должна вас ненавидеть, но у меня нет для этого сил. Я очень несчастна и морально раздавлена. Моя любовь к вам оказалась сильнее всех остальных чувств. Даже перестав уважать вас, перестав вам верить, — я все же люблю вас. Так больше продолжаться не может. Я стыжусь смотреть в глаза людям, которых я не могу не уважать, а вы их предали. К тому же мне уже трудно скрывать свою беременность…»
Зинаида Дмитриевна подумала немного и твердо вывела внизу: «Прощайте навсегда».
…Тимка, пробираясь глухими переулками, никак не мог отделаться от чувства жалости к учительнице. Провожая его до крыльца, она неожиданно обняла его и поцеловала в лоб. Тимка, видя, как она расстроена, так и не посмел заговорить с ней о Наталке.
Как ни хотелось Тимке скорее попасть домой, все же осторожность взяла верх, и он решил сперва добраться до своего родственника и крестного отца деда Ковтуна.
Ковтун жил бобылем, немного в стороне от центральной улицы. Его опрятный курень, вымазанный глиной и выбеленный, был крыт свежим камышом, а в большом старом саду была пасека. Из–за пчел к деду в сад не отваживались лазить за яблоками и абрикосами даже самые отчаянные из станичных ребят.
Перепрыгнув через забор и окрикнув куцехвостого кобеля волчьей масти, с обрезанными ушами, Тимка тихонько стукнул в окно. То ли старческий сон был чуток, то ли дед еще не ложился спать — дверь сейчас же скрипнула, и на пороге показалась высокая фигура Ковтуна в черкеске нараспашку и с палкой в руке.
Ковтун молча всматривался в своего ночного гостя и, узнав Тимку, без особой радости спросил:
— Что ты, Тимка? Что надо?
— Пусти, крестный… дело есть.
— Входи. Ты что, пешком?
— До станицы доехал, а в станицу пеши пробрался.
Курень Ковтуна состоял из одной комнаты с большой русской печью. Стены и печь были выбелены мелом, а земляной пол вымазан глиной и устлан свежеплетеными чаканками. По стенам были развешаны фотографии в черных резных рамках и пучки каких–то трав, а над кроватью, стоящей в первой половине, на пестром ковре висели старинные пистолеты, сабли и кинжалы. Тут же, на узеньком ремешке, красовалось начищенное до блеска охотничье ружье деда Ковтуна.
Все до мелочи было знакомо Тимке: и эта поражающая посторонний глаз чистота, и старая черная кошка Муська возле печки. Знал он, что в том огромном кувшине, что стоит в углу кухни, держит дед Ковтун медовый квас, а вот тот, что чуть поменьше, но все же доходит Тимке по пояс, наполнен медом. Да мало ли что еще есть у деда Ковтуна: моченые яблоки, которые так любит Тимка, и повидло на меду из чернослива, и ведерные бутыли вишен, от терпкого сока которых сладко кружится голова, а ноги каменеют и отказываются служить.
Одно лишь было всегда непонятно Тимке: как это дед Ковтун управлялся сам со всем своим хозяйством, успевал делать всю бабью работу, да еще находил время ловить с Тимкой сазанов, а вечерами рассказывать ему занимательные были про старину далекую, навсегда ушедшую, про стародавние походы казачьи за Терек.
Давно Тимка не был у крестного и теперь, войдя в кухню и снимая пояс, с удовольствием рассматривал каждый предмет, как–то по–особенному, приветливо выделяющийся при свете горящей печки и маленькой лампы. Тимка с наслаждением потянул носом запах свежесваренного борща и тушеного мяса. «Вкусно готовит старый», — подумал Тимка и, сняв папаху, принялся расстегивать крючки суконной черкески.
Дед стоял тут же, возле небольшого кухонного столика. Был он высокий, еще крепкий старик с седыми, книзу спускающимися усами и гладко выбритым круглым подбородком. Его карие глаза с тревогой смотрели на Тимку из–под лохматых бровей. А Тимка, повесив черкеску на гвоздик, подошел к печке, погладил кошку и, потянув еще раз носом аромат от кушаний, вздохнул.
— Исты хочешь?
— Очень хочу, крестный.
— Ну, добре, сидай.
Ковтун усадил Тимку на лавку и вытащил из печки глиняный котелок борща. Тимка ел борщ с жадностью, обжигая губы. Дед сидел напротив, положив на стол локти. Бязевая рубаха Ковтуна была чисто выстирана и выглажена. Из ее рукавов торчали узловатые руки, покрытые морщинами, ссадинами и мозолями.
После борща Ковтун подал Тимке тушеную баранину с картошкой, потом жареных карасей и, наконец, моченых яблок и чашку вишневого сока.
— Що за дило привело тебя, сокол, в станицу?
— По дому соскучился, крестный.
— Домой тебе зараз не можно.
— Почему?! — вырвалось у Тимки. Он отложил недоеденное яблоко и впился взглядом в деда. — Почему?.. — переспросил он сорвавшимся шепотом.
— До Поли брат с Красной Армии приехал, у вас гостит.
— Что же делать, крестный?
Ковтун с минуту молчал, потом, глядя в угол, сказал:
— Лягай спать, а я пойду до вас, гукну 1 Польку. Що ж с тобой, бандюгой, робить…
1 Гукну — позову.
Тимка вспыхнул. Он знал, что Ковтун недолюбливал его отца и брата за то, что они сперва ушли с генералом Покровским, а потом пристали к «камышовскому войску», как иронически называл дед отряд Дрофы. Однако назвать его, Тимку, бандюгой — хоть, может, и в шутку — это уж слишком! Но прежде чем Тимка успел сказать что–нибудь, дед взял палку, снял с гвоздя папаху и вышел за дверь.