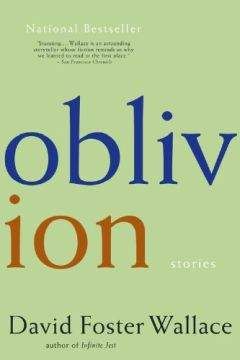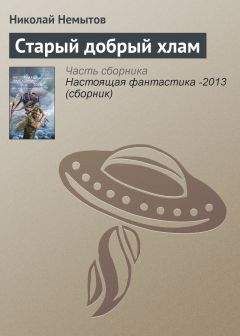Обратный путь никому не принес никакого удовольствия. Минасик летел вперед, отставать от него не хотелось; так и мчались под гору, расплескивая из ведра воду.
В ведре находилось двадцать три тритона. Почти всех их поймал Ромка. Он вошел в азарт и никому не хотел уступать сачок.
— У! Что ты за человек? Я же лучше ловить могу, я уже научился. Смотри: р-раз! И там! Ма-ла-дец!..
Солнце еще не успело сесть, а темнота уже навалилась, тяжелая и непроглядная. В горах почти не бывает сумерек, ночь наступает сразу. Где-то, невообразимо высоко, помигивают звезды, света от них никакого, одна красота. Красота — это, конечно, хорошо, но свет куда нужнее, потому что тропа все время исчезала из-под ног, и Минасик уже дважды сваливался в какие-то ямы.
В конце концов они выбрались на гребень последней горы, и у них под ногами сразу, словно по команде, вспыхнул тысячами огней город.
— Ура! — хотел было крикнуть Ива и не крикнул. Уж больно хорош был разлив огней, зачем же кричать? Постой тихонько, посмотри, каков он, твой город, сколько горит в нем окон, сколько улиц бежит вслед за вереницей фонарей.
Даже Минасик остановился, завороженный видом громадной черной чаши, в которой грудой самоцветов переливались, вспыхивали, мигали, двигались огни…
Все, что произошло дальше, когда они вступили на Подгорную улицу, совершенно не соответствовало их тщательно разработанному плану.
Предполагалось незаметно проникнуть в старую кухню, взять портфели, спрятать походное оборудование и только тогда разойтись.
А что получилось? У подъезда их дома стояла чуть ли не толпа: Минасикины родители, обе его бабушки, вызванные, видимо, по телефону вместе с тетей Маргаритой, затем родители Ивы, все Ромкино семейство, за исключением отца, который еще не вернулся с работы, куча сочувствующих соседей. Тут же крутились Гера с Уналом и без конца задирающий их Ромкин пес.
Проберись незаметно через такой заслон попробуй! Ромка, тот сразу же исчез. Вместе со своим псом и тритонами. Только что были рядом, и нет их.
— Чтоб ты совсем пропал! — кричали вслед Ромке то мать, то Джулька. — Вот погоди, вернется с работы папочка, он покажет тебе, как на «шатало» убегать! Откуда ты только взялся на нашу бедную голову, из-за тебя от соседей стыдно!
Родители Минасика, с бабушками и тетей Маргаритой, вели себя совсем по-другому: они ощупывали его, словно пересчитывали руки-ноги, все ли на месте, ничего ли не сломано, не откушено, не потеряно. И при этом причитали хором:
— Минасик! Слава богу, Минасик! Мы думали, ты утонул, Минасик!..
— Зачем же было так, Шурец? — тихо спросил летчик. — Ты ведь старший. Здесь эта… В общем, черт знает что она наплела…
Все ясно — мадам Флигель! Как только хватились Минасика, она тут же сообщила, что видела его утром, что тот шел ловить рыбу вместе с хулиганами, один из которых был вооружен до зубов.
И сразу началась паника. Племянники Мак-Валуа, по настоятельной просьбе Минасикиных родителей, бросились искать его на реке. Сами родители, обзвонив все больницы и морги, навели справки о поступивших в этот день утопленниках.
— Да разве сразу найдут? — подливала масла в огонь мадам Флигель. — Когда утонул мой двоюродный дядя, его целых четыре дня искали.
— О-о-о! — метались Минасикины родичи. — О-о! Уже совсем темно, а его все нет! Пропал наш мальчик! О-о, попросите профессора, пусть позвонит в милицию от своего имени.
— Да перестаньте вы! — сердился летчик. — Минас не один, с ним трое товарищей — это ж сила! Ничего не случится, перестаньте!
— Смотря какой товарисц, — добавлял Никс, но так, чтобы летчик не слышал. — Если испорценный мальциска, у которого церте сто на уме, то…
— О-о-о!..
Да, ничего не скажешь, встреча была горячей.
На следующий день выяснилось, что все тритоны исчезли. Не в полном смысле этого слова, но все-таки. Попросту говоря, Ромка отнес их в зоопарк.
— Три рубля за штуку дали, — сообщил он гордо. — Сказали: еще принесешь — возьмем.
— И ты?! — Минасик чуть было не задохнулся от негодования.
— Молчи, утопленник! — отмахнулся от него Ромка. — Что я мог сделать? Джулька визг подняла знаешь какой? «Лягушки!» — кричит; отец хотел на помойку все вылить, я едва убежал с ними. А теперь хоть деньги есть, будете в кино за мой счет ходить…
«Работают все радиостанции Советского Союза…»
Эту фразу Ива услышал на улице. Прямо над ним висел мокрый от недавнего дождя колокол репродуктора.
— Работают все радиостанции Советского Союза…
Рядом с Ивой стояли незнакомые люди. Смотрели с испугом на репродуктор. Какая-то старушка в черной накидке начала мелко и быстро креститься. Рабочий в кепке с заломленным козырьком сказал сквозь зубы:
— Война, значит? Ну что ж, им же хуже будет…
Страха Ива не испытывал. Совсем другое чувство заполнило его до краев. Он не смог бы объяснить, что это было за чувство. В нем смешалось все: и удивление, и ожидание чего-то совершенно невероятного, что может произойти буквально через минуту, и незнакомая какая-то тревога, и одновременно восторг оттого, что началось особое, героическое время, о котором он до сих пор знал только из книг да кинокартин.
Несутся в атаку наши танки, горит земля, пятятся фигурки врагов. Вот они уже бегут, а за танками лавина красных всадников. Они летят, шашки наголо, сквозь рваные всполохи разрывов, сквозь дым и пламя. И победно заглушает гром сражения ликующее «ура». И музыка, музыка! Еще секунда, мелькнет слово «Конец», и кто-то из самых нетерпеливых, пригнувшись, побежит через зал к выходу.
Это кино. В нем все исчезает, как только зажигается свет. Остается белый прямоугольник экрана, бестолковая давка у дверей и ощущение почти что разочарования — все кончилось, исчезло: и атаки, и команды беззаветно храбрых командиров, и бульдожьи морды врагов в стальных касках с рожками. Вместо этого будет знакомая улица, продавец воздушной кукурузы на углу, двор, три старые акации да еще тонконогие ученицы дочери мадам Флигель с громадными черными папками для нот. Они бегут по лестнице флигеля, высовывают на ходу язык, дразнятся.
— А вот я вас гранатой, козы!..
Воздушная кукуруза, или, как ее называют в городе, бады-буды, похожа на старинную ручную гранату. Сладкий розовый шар, слепленный из поджаренных кукурузных зерен.
«Козы» визжат, в испуге отмахиваются своими папками, как будто и вправду сейчас разорвется граната. А с балкона флигеля уже несется:
— Вы поглядите на этого хулигана! Он как с цепи сорванный! Мама! Где наш чайник с кипятком?..
«Козы» давно убежали, во дворе никого нет, бады-буды больше не кажется сладкой. Надо идти домой учить уроки…
И вдруг все сразу изменилось в жизни. Так неожиданно и резко.
Война… Война… Война…
Она где-то далеко на западе, у самой границы. Там уже фронт, бессонное небо над горящими деревнями, грохот и дым, чья-то смерть. Как трудно это представить себе здесь, в тихое летнее утро, в городе, где все по-прежнему безмятежно, несмотря на то, что в судьбу этого города, а значит, и в судьбу Ивы вместе с твердыми словами «Работают все радиостанции Советского Союза…» вошло нечто пугающе незнакомое. Ива вслушивался — слова звучали торжественно и властно, они заставляли людей стоять прямо и настороженно, как стоят солдаты в боевом строю. Ива тоже стоял так, вытянув руки по швам, подняв голову к репродуктору, слушая взволнованный перестук сердца:
— Война… Война… Война…
Летчик не пропускал ни одной сводки Совинформбюро. В его комнате на стене висела большая карта с воткнутыми в нее флажками: черные — это оставленные нами города; белые — города, которые бомбила немецкая авиация.
Старьевщик Никагосов забросил свой мешок, перестал ходить с ним по дворам. Целыми днями теперь сидел он в своем подвале, латал что-то, перекраивал, а Михель набивал подметки на старые штиблеты и сапоги.
— Скоро в магазинах ничего не будет, — говорил Никагосов. — Война, что сделаешь? Выходит, это барахло стоит чинить, красить, люди еще поносят, правильно?
— Прафильно, — соглашался Михель. — А нам с топой пудут теньги.
— Слушай, сосед, а если немцы сюда придут, они тебя небось начальником над нами сделают, а? — Он смеялся раскатистым своим смехом с кашлем пополам, хлопал Михеля по худой спине. — Так что готовься в начальники, старый черт!
— Ты турак, — Михель невозмутимо продолжал наващивать дратву. — За такой глюпый слова я буду готовить тля тебя один польшой палка…
Ромкин отец не был больше директором ресторана «Олимпик», потому что ресторан ликвидировали, а вместо него открыли столовую для летчиков. Теперь Ромкин отец ходил в военном кителе и в фуражке защитного цвета, правда, без петлиц и звездочки.
— Ему звание должны дать, — хвастался Ромка. — Капитана, не меньше. И фуражка другая будет, как у летчиков.
Но пока что Ромкин папаша ходил без звания и по-прежнему, возвращаясь вечерами домой, нес в руке скрипучую корзину, плотно закрытую крышкой.