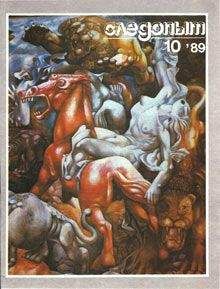И вот наконец Митька был подозван к столу, и Оксана Тарасовна, взяв у него метрики, светло и торжественно объявила ему, что он принят в первый класс «Б» и пусть завтра приведет в школу маму или дедушку.
Митька бросился было к двери, но Оксана Тарасовна со смехом остановила его и попросила прочесть им какое-нибудь стихотворение. На прощанье.
— Какое? Я много знаю…
— Ну… самое любимое. Атлас пока можешь положить.
— Не-е, с атласом лучше, Оксана Тарасовна. — Митька откашлялся и начал:
Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается…
Красный от слез и радости Митька звенел, как колокольчик. Покачивая головой, шевелила за ним губами Оксана Тарасовна. «Тетенька» сидела испуганно-прямо и во все очки таращилась на маленького восторженного карапета с атласом под мышкой…
…Едет пахарь с сохой, едет — песню поет;
По плечу молодцу все тяжелое!..
Не боли ты, душа! отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!
— Рубцовка! Рубцовка! — испуганно мчал вскрики по вагону потный выпученный мужичонка. — Рубцовка! Чего сидите-то! Рубцовка!
Все разом вскочили, всполошно засуетились, полетели в проход вагона мешки, узлы, чемоданы. Взвизги женщин, рев детей.
Катя металась по закутку, быстро собирала посуду, остатки еды. В узелок все засовывала, в сумку. Тут же пыхтел с сидором Панкрат Никитич — уминал в него здоровущие кирзовые сапоги, которые вез в подарок «зетю» Кольше и которыми только что хвалился Кате. Но теперь вот чертовы сапоги не лезли обратно в сидор, хоть тресни! Старуха маялась, глядя. Не выдержала, выхватила сидор, сама запыхтела. «Ничего не могет! Ничего! Только б болтать! Только б болтать!.. На, держи!» Панкрат Никитич виновато подхватил сидор, но охлестывая веревкой его горловину, еще и Митьке успел подмигнуть, дескать, ну грозная — беда! Митька быстро улыбнулся в ответ: он понимает и сочувствует дедушке. Однако сам торопливенько застегивал пуговки капитанки, спешил.
Из соседнего закутка все время вылетал испуганный детский голосок: «Где? где рубцовка? саблями, да? мам, саблями, да?» Привычно-четкий шлепок матери выпульнул в проход вагона мальчонку лет четырёх. Белоголовенького, со спустившейся проймой коротких штанишек. Мальчонка испуганно потоптался и судорожно запустил указательный палец в правую ноздрю. Как на замок спасительный закрылся, й на Митьку воззрился в ужасе. Митька рассмеялся и успокоил малыша, заверив его, что это станция такая, название, и никаких «рубцовок саблями» там нет и быть не может. Не бойся, глупенький!..
Малыш недоверчиво посопел, но «замок» все же разомкнул.
— Кампас-с-си-ировать! Кампас-с-сировать! — улавливаемой птицей заметалось по вагону.
Вздрогнул малыш, к Митьке вертанулся — а?!
Митька и тут детально разъяснил, что означает это слово, ничего страшного в нем нет, и погладил малыша.
Катя поторопила Митьку, но тот уже одет — короткие вельветовые штаны, длинная капитанка, баульчик в руке, — вышел в проход вагона, стал у окна: он — образцовый пассажир железной дороги. «Так, станция довольно-таки интересна и разнообразна», — любознательным поплавком покачивается, водится в окне торчащий вверх козырек его кепки.
А по перрону, не дожидаясь полной остановки поезда, уже бежали, волочились, толкали коленями тяжелые связки мешков, чемоданов, падали железнодорожные пассажиры — все стремились куда-то вперед, вперед поезда, вытаращивая глаза.
Малыш в вагоне не зря опасался «рубцовки саблями». Была рубцовка. Да еще какая…
В низенькое оконце билетной кассы какими-то упорнейшими, непобедимыми живцами всверливались густо мужики. Мамай! Куликовская битва! И в бьющемся этом, орущем воинстве — неизвестно как попавшая в него — Катя.
— Мама! — кричал Митька. — Ма-а-ама!!
— Стой у вещей! Не отходи… от вещей! — билась, выдавливалась вместе с криком наверх голов Катя. — Не от… ходи-и!
И вдруг пошла лупить кулаками направо-налево. Прямо по башкам. Расшатнулось воинство. Недоумевает: ненормальная, что ли? Катя тут же нырнула к кассе. Вынырнула обратно и вышвырнулась из клубка. Мужики опомнились — в рубцовку!
— Ну, чего нюни распустил? — Катя улыбалась, победно помахивала закомпостированными билетами — Дальше едем! — Платок у нее съехал на ухо, волосы крылом на одной щеке, длинная царапина — на другой: красотка, да и только!
— Ма-ама… — обнялся, прижался к матери Митька.
Внезапно увидели Панкрата Никитича и тетю Малашу. В толпе, неподалеку. Старики растерянно топтались, обставленные своими мешками. «Господи, как же про них-то забыли?» — уже проталкивалась к ним Катя.
При виде ее Панкрат Никитич обрадовался, но тут же сник, и словами, и всем видом своим выражая их досадное со старухой опозданье.
— А все ты, ты-ы! — мстительно заскребла его старуха. Красная, злая. — Люди бегом, бегом, а он вышагивает, а о-он вышагивает: успею, куды мине торопиться, мине спицально билеты приготовлены, дожидаются мине… Э-э!
— Да будет тебе… — стыдился за жену старик.
Катя решительно потребовала их билеты. Старик начал быстро ощупывать себя, прилежно вспоминать, но старуха уже оправляла подол и протягивала билеты Кате. Катя ринулась к кассе.
— Ты глянь, опять эта ненормальная! — испуганно раздавливались на стороны мужики.
Катя лезла.
— Мне только узнать! Узнать мне то… лько! Узна-а-ать!
Нырнула…
— Вот нахалка так нахалка! Второй раз! Без очереди!..
— Да выкиньте ее!
— Да чё ж это тако, мужики?
— Да выкиньте ее, стерьву! Вы-ы-ыкиньте! — упорно ныл поверху гундливый голосок.
Катю выкинули. Но билеты в руках — закомпостированы.
Билеты стариков почему-то пронумеровали не в пятый вагон, как Катя просила, а в восьмой, и Панкрат Никитич сильно огорчился. Катя стала заверять его, что в Новосибирске постараются попасть в один вагон, вместе, что так уж получилось. Просила она. Без разговоров сунули билеты — и все… Но старик все сокрушался, да как же теперь они не вместе-то будут, и жалко это, конечно… ах ты мать честная! Как же?.. Непоправимую оплошность будто допустил. И виноват сам, а не равнодушная кассирша, что выкинула билет — и: следующий!
— Ну, чего привязался к людям? — толкнула его локтем старуха. — Сказали тебе… — И словно извиняясь за непростительную слабость старика, поясняла — Он у нас такой… Привязчивый. Как малой. Не дай бог!
Старик, как нашкодивший, виновато посмеивался.
Нужно было идти в город отоваривать карточки.
У стариков карточек не было. «Нам не положено. У нас все свое должно быть. Мы из деревни. Мы — богатеи!» — пошутил Панкрат Никитич.
— Но может — что без талонов будет? — предложила ему Катя. — Селедка? Чай?.. Мы купим?..
Продолжая чудить, старик яростно охлопался по карманам. Крутанулся к жене: где деньги, жана?! У старухи глаза сразу забегали, как в осаду попав, в окруженье, она зло глянула на мужа, стала ухватывать подол рукой.
Деньги считала долго, отвернувшись от всех. (Старик подмигивал Кате: беда-а!) Принималась зачем-то гмыкать, покашливать, кряхтеть. Шелест денег чтобы заглушить, что ли?.. Повернулась, наконец:
— Вота, дочка, шестьдесят. Перешшитай!
Катя пересчитала — все верно: шестьдесят. Пусть не беспокоятся — если будет что, купит, сдачи принесет.
— Только вы уж, дочка, вешшички-то оставьте, оставьте… — Глаза старухи снова забегали. — А мы покараулим. Оставьте…
Старик долгим взглядом посмотрел на жену…
— Да… да, оставьте, — все прятала та глаза. — А мы покараулим, покараулим, оставьте…
Катя постояла. Густо, всем лицом, покраснела. Сказала, что сама хотела просить их об этом. Пододвинула свои вещи к ногам стариков.
— Митя, давай и твой баульчик. Тетя Малаша покараулит… Ну, чего ж ты?..
Ну уж нет, со своим баульчиком он, Митька, расстаться не может. Никак не может. Даже если б это нужно было для успокоения десяти тетей Маланг! Какой же он железнодорожный пассажир без ручной клади? Неужели не понятно?
— У, упрямый!
Глядя им вслед, старик дергал себя за ухо, отворачивался, стыдился самого себя. Не выдержав, слезливо застенал к жене:
— Чего ж ты, а? Заместо благодарности, а? Чурки мы, выходит, а-а?..
Отвернувшись от него, старуха растопыривалась к полу, улавливала сидора, сгуртовывала их, как баранов, что-то зло бормоча…
— Тьфу! — плюнул в сердцах старик.
Ночью в битком набитом людьми общем вагоне удерживала Катя на коленях голову спящего Митьки. Все те заботы, переживания, трудности и неудобства дальней дороги, спасающие Катю днем, теперь безжалостно ушли, оставив ей — ее: беззащитное, больное, в грохоте колес без исхода бьющееся под вагоном; почему ты столько время молчал? почему ты столько время молчал? почему ты сейчас молчишь? почему ты сейчас молчишь? почему? почему? почему?..