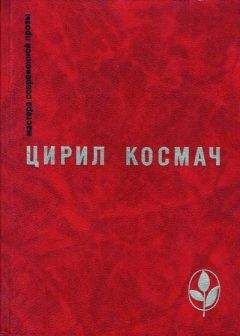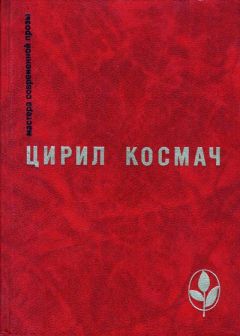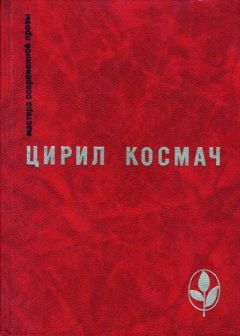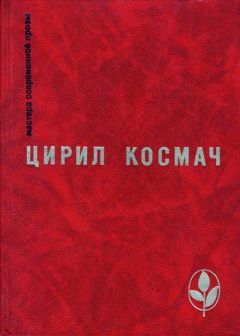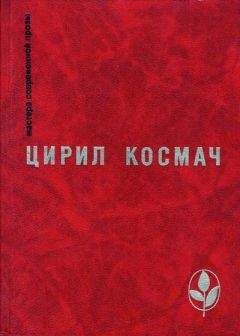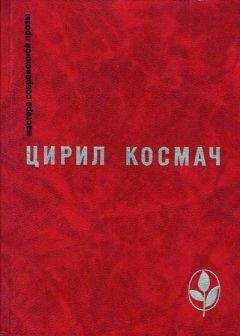— Славу богу! — невольно вслух произнес Петер Майцен, но тут же добавил: — Скажите ей, пусть принесет мне кружку воды!
Хозяин проворно высунулся в окно. Видимо, он был доволен, что может угомонить жену этой просьбой.
— Принеси кружку воды! — закричал он.
— Что?
— Кружку воды, господин хочет сварить себе кофе!
Петер Майцен подвинул расшатанную тумбочку к стене, где была розетка, расстелил старую газету и поставил на нее спиртовку, джезву и чашечку.
— Сейчас принесет, — произнес крестьянин. Он опять прислонился к окну, почесал подбородок и спросил: — А что с ним было?
— С кем?
— Да с тем человеком. Как вы его назвали?..
— Темникар! — в сердцах сказал Петер Майцен, не зная, как прекратить надоевший ему разговор, не слишком обидев хозяина.
— Ага, Темникар! А что же с ним было?
— Ничего особенного! — махнул рукой Петер Майцен. — Он вступил в схватку с пятью белогвардейцами, чтобы спасти двенадцать раненых партизан, которых товарищи спрятали на время облавы в лесу. И это все, что с ним произошло!
— Хм, такое дело… А он один был?
— Один…
— И побил их?
— Побил…
— И старик, говорите?
— Семьдесят лет…
— Хм… А сам тоже погиб?
— Погиб…
— Хм, такое дело… — Хозяин почесал подбородок и шумно вздохнул, словно это отвечало каким-то его мыслям.
— Такое дело! Такое дело! — отрывисто произнес Петер Майцен, разозлившись. — Погиб он! Погиб! И все же это был прекрасный, пожалуй, самый прекрасный день в его жизни!.. Вам этого не понять!
Крестьянин остолбенел. Пальцы его замерли на подбородке; раскрыв рот, не моргая, он глядел на Петера Майцена, словно на змею, которая вот-вот вонзит свои зубы в его сердце.
— Я хочу сказать, что вам это и впрямь трудно понять! — стал выкручиваться Петер Майцен, сам невольно оцепенев перед этим изваянием. В ту минуту он подумал лишь о том, что смертельно обидел человека. Позже, значительно позже, он будет с возмущением упрекать себя: как он, писатель, мог оказаться настолько слепым; как мог не заметить, что его слова разбередили открытую, кровоточащую рану Чернилогара, которая жгла ему тело и душу; он сердился на себя и убеждал, будто не заметил этого оттого только, что Чернилогар не вызвал у него интереса и симпатии. Но, как бы то ни было, в ту минуту он ничего не заметил, он видел перед собой лишь обиженного человека и пытался как-то оправдаться: — Я хочу сказать, что вам это и впрямь трудно понять! И никто не мог бы понять, если б ему не рассказали о прежней жизни Темникара, о его судьбе, его тоске, обо всех тех особых обстоятельствах, которые так повлияли на человека, что он переродился, его страх переплавился в мужество и… и он принял смерть во имя жизни, принял ее как…
Тут в дверь постучали, и вошла хозяйка с кружкой воды. Петер Майцен уже видел ее, но лишь сейчас ему бросилось в глаза, какая она высокая и дородная.
— Вот! Хватит? — спросила она, ставя кружку прямо на книги. И, не дождавшись ответа, накинулась на мужа — Эй! Ты уже пустил корни?.. Чего стоишь истуканом, как надгробный камень на собственной могиле?
Потом она снова повернулась к Петеру Майцену.
— Его только за смертью посылать, и тогда можно преспокойно ждать трубы Судного дня!
Муж ее вздрогнул и громко откашлялся.
— Хм, такое дело… Я разговариваю…
— Разговариваешь? — Женщина уперлась руками в литые бока и как-то странно ухмыльнулась, вроде бы свысока. — Разговариваешь? Молодец… ничего не скажешь… И помогает?.. Нет! В самом деле?.. И только мешаешь господину! И верно ведь, сударь?
— Нет, нет, — поспешил ответить Петер Майцен — жена ему понравилась еще меньше, чем муж. Несмотря на всю свою живость и смех и опрятную одежду, она показалась ему какой-то нечистой, не очень умной, с глухим сердцем.
— Хм, такое дело! — рассмеялась она, разводя в стороны полные белые руки. — И я ведь тоже не прочь поговорить. Особенно с образованными людьми, которые… и могут многое объяснить… и понимают, что к чему… и могут растолковать, что и как… И мы ведь простые люди… и неученые… и, однако же, люди и… И верно ведь, сударь?
— Разумеется, разумеется! — закивал Петер Майцен, опасаясь, что теперь женщина вовсе выведет его из себя, и не зная, как от нее отделаться.
— Я и говорю, — оживленно зачастила она, — я и говорю, что иногда простой человек может споткнуться… и я хочу сказать — не понять… и потом мучается, как змея в расщепе и… без нужды вовсе даже… И верно ведь, сударь?
— Да, да…
— И… было время… я не хочу сказать, что плохое было время, нет, не плохое… другое только… и хорошее… И только мы в прежнее время… и перед войною… И только когда нас война закружила, мы от всех этих ужасов… и совсем голову потеряли и… я хочу сказать, что очень легко было ее потерять… И ничего странного в том нет…
— Да, да! — произнес Петер Майцен, взял кружку с водой и подошел к тумбочке.
Крестьянин откашлялся и вдруг так неожиданно громко выпалил свое «такое дело», что Петер Майцен невольно на него оглянулся.
— И… и чего это я болтаю? — засмеялась женщина и цветастым передником стала вытирать красное лицо. — Разболталась по-бабьи…
— Да, да! — произнес Петер Майцен. — Ничего в этом нет худого! Только, знаете, я хотел бы поработать.
— Вот и я говорю! — проворно подхватила женщина. — Всему свое время — и верно ведь, сударь?
— Конечно, конечно!
— И вот видишь? — повернулась она к мужу. — Пошли! Самому работать неохота, так хоть другим не мешай. И верно ведь, сударь?
Петер Майцен не ответил. Он поднял кружку и стал наливать воду в джезву так-, что струя громко забулькала.
Муж и жена не произнесли больше ни слова и так тихо прикрыли за собой дверь, словно не были хозяевами в собственном доме.
— Ух! — громко вздохнул Петер Майцен.
Он поставил джезву на спиртовку, а кружку на пол. Потом крепко, до хруста в суставах, потянулся и высоко подпрыгнул, как бы освобождаясь от тяжкого и гнетущего бремени.
— Ух! Досыта наговорились — и с «такоделом», и с его «икалкой»! Надеюсь, теперь до ужина больше не услышу ни этого «дела», ни этого «и»!
Он сунул руки в карманы и принялся насвистывать неторопливую английскую мелодию, давно звучавшую у него в ушах. Насвистывал и слегка пританцовывал возле тумбочки, пока не закипела вода. Быстро размешав кофе, налил его в чашечку.
— Вот так! Теперь за работу! — воскликнул он и сел к столу. Закурил, придвинул к себе папку. Медленно, почти торжественно открыл ее и в своей озорной радости по-французски окликнул Темникара, окликнул даже несколько фамильярно, словно вызывал на битву — Et maintenant, Temnikar, à nons deux![1]
Но, увы, Темникар не появлялся!
Петер Майцен испугался. Широко раскрыл глаза, потом крепко зажмурился, чтоб разглядеть его во тьме. Но видения, только что такие ясные и отчетливые, что он мог бы их сфотографировать, вдруг омертвели, затянулись туманом, расплылись в серые пятна и наконец совсем растаяли. Перед его взором была лишь кромешная тьма. Потом в ней возникли красные, зеленые и желтые круги, они мелькали, сталкивались, от их мельтешенья у него заболели виски; вскоре они исчезли, и вместо них появились черные пятна — они бегали, скользили, будто по черному льду, и тотчас пропадали.
— Проклятый мужик! Проклятая баба! — выругался Петер Майцен и, в сердцах отодвинув стол, заметался по комнате. — Так и знал, доведут меня!
«Знал? Думаешь, в самом деле виновата эта пара?»
— А как же! — воскликнул он, стремясь заглушить свой внутренний голос. «Хм, такое дело, а пойдет?.. Хм, такое дело, а у вас быстро идет?.. Хм, такое дело, а интересно получится?.. Хм, такое дело, а стоит?»
Петер Майцен погрузился в себя. Он почувствовал в сердце грусть, которая вскоре перешла в отчаяние, отчаяние сгустилось в тоску, а тоска, окаменев, ледяной глыбой осела в желудке. Пламя творческой радости, только что озарявшее лицо, погасло; ожили горечь и скорбь и засмеялись над ним, как над побежденным старцем. «Да, так всегда!.. А почему? Откуда эта тревога, отчаяние, эта тоска, эта ледяная глыба в желудке?»
Он закрыл папку и оттолкнул ее от себя. Облокотился на стол, подперев голову руками, и уставился в окно.
Двор был тесным; метрах в четырех шла высокая белая стена другого крыла дома, над ней — коричневая крыша с низкой трубой, из которой тянулся прозрачный голубоватый дым.
— Все дым! — сокрушенно вздохнул он.
Он сжал губы и посмотрел на узкую полоску неба, видневшуюся над крышей. Небо было темно-синим, глубоким и пустынным.
«Даже облака нет!.. У Темникара было свое облако. Уходя из дома, он видел его над Вранеком, а позже, когда лежал в Робах, — над Врезами. Облако растаяло при последнем его вздохе… А мое небо уже пустое, пустое и глубокое, как бездонная пропасть…»