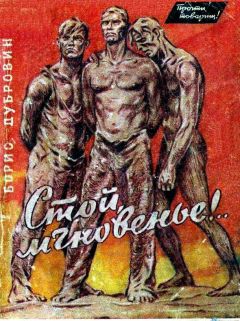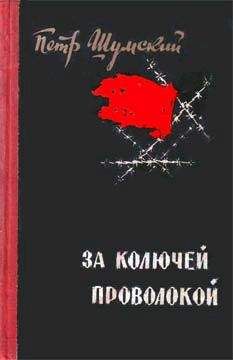Кончилась война, но для врача она продолжается.
Ночью после сложной операции усталому профессору не спится. Свет в квартире погашен. Но Борису Васильевичу видятся яркая лампа, тусклое лицо больного, слышится прерывающийся пульс. Перед глазами возникают и обжигают уже ставшие воспоминаниями только что происходившие события. Лежа в темноте, он думает, а как там сейчас? Что с больным?
На цыпочках, чтобы не разбудить спящих, доктор, беззвучно ступая, выходит из комнаты и припадает к телефону. Три часа ночи. Дежурный врач снимает трубку. Петровский подробно расспрашивает. о. больном и только потом засыпает.
И когда он выходит из операционной и входит в палату, лица проясняются: радость вошла раньше его. Светлеет и лицо хирурга. То ли это он, как надежда, входит к безнадежно больным?, То ли их вера молодит добрые сияющие глаза профессора? Он идет высокий, широкоплечий. Иногда кажется, что он здесь случайно, мимоходом, Но вдруг из-под одеяла на груди больного покажется свежий шов, и такая улыбка блеснет в благодарных глазах, что поймешь — откуда черпает врач свои силы. Взглянешь на ряды коек и поймешь, сколько энергии требуется от врача, чтобы изо дня в день по много часов вести тяжелую борьбу за жизнь.
Скульптор отливает памятник из бронзы или высекает его из гранита. Строители создают свои многоэтажные памятники, и они занимают свое незыблемое место на улицах и площадях. Но по всей земле живут живые памятники — творение рук Петровского. Петровского, прошедшего путь от санитара до профессора. Давно ушла юность, далека и молодость. Профессору за пятьдесят. Но рядом с ним вас не оставляет ощущение молодости. И вы понимаете, что цельный характер, железная воля и редкая выносливость — необходимые качества хирурга,
…Надев белый халат, я занял место, откуда все было хорошо видно. Вспыхнул электрический свет и…
Воздушным стрелком летал я сквозь огонь зениток. В пограничных скалах на коне повисал над ночной бездной. На торпедном катере мчался по штормовому океану. Но никогда сердце мое не сжималось так, как в безмолвии операционного зала, когда я ждал, как в руке профессора сожмется другое сердце.
И вот больной на столе.
Он укрыт простыней.
Он уже под общим наркозом. Ему делают кислородное дыхание.
Правая рука как бы откинута на подставку, и к руке подключен прибор, отмечающий работу, сердца. Левая рука приподнята металлической дугой, под прямым углом согнута в локте, прочно прибинтована к этой дуге.
Он лежит на правом боку, а левый уже обнажают.
Вокруг больного профессор и врачи.
Профессор пошевелил пальцами и как будто магнитами притянул стальные зажимы. Мелькают руки. Рана покрывается сталью зажимов.
Жду, что кровь хлынет. Но кровь только полыхнула и словно сгорела. Кровь отступила. А под скальпелем хирурга живые ткани продолжали расступаться все глубже и глубже.
Белизна халатов сгладила несхожесть фигур, белизна марлевых повязок утаила цвет и форму лиц, белые шапочки укрыли волосы. Все свои силы они сейчас отдавали борьбе за жизнь человека, который, закрыв глаза и открыв сердце, лежал перед ними. Лежал и ждал помощи. Он уже не мог думать. Не мог надеяться. Не мог отчаяться. Он вручил себя им.
Все халаты слились в одно целое, подобно доброму и зоркому существу. И это многорукое существо склонилось над человеком.
А на улице беззаботная капель выстукивает первые позывные весны. Над головой сугробы облаков. Под ногами оплывают облака сугробов.
Здесь тишина. Здесь электрический свет, потому что хирурги не доверяют даже солнцу. Здесь неуловимо быстрые, а порою томительно медленные движения. И тебя поразит внешнее спокойствие людей в белый халатах. Тебя потрясет чуть не пополам рассеченное тело. Ты видишь, не слышишь, а видишь бьющееся человеческое сердце. Ты - зритель, и ты почти теряешь сознание. Но ты только смотришь на обнаженное сердце, а они касаются его. Ты смотришь, как спасают. А они — спасают. Нож в руке профессора, сохраняя свою твердость, обретает чуткость человека. Нож теперь-продолжение пальцев хирурга.
Тело больного рассечено. Ребра раздвинуты, и нож погружается в живые ткани. Руки хирурга, как обнаженные нервы. Неожиданные микроскопические препятствия он ощущает раньше, чем лезвие рассечет нитку живой ткани. И вот эти руки держат умирающее сердце…
Руки профессора и его помощников движутся в неуловимом ритме. Разрезана сердечная сорочка, точнее, мешочек, хранящий сердце…
Неожиданно в глубине предсердия хирург обнаружил тромб. Тромб — это плотный шаровидный сгусток крови. Он плавает в сердце, как морская мина. Стоит этому тромбу закрыть отверстие клапана или легочную вену, и мгновенная смерть неизбежна.
А сейчас руки доктора охватывают стенку предсердия круговым швом. Затем сердце рассекается. Палец хирурга проникает между стенкой сердца и тромбом. Палец, словно крючком, поддевает этот сгусток и выбрасывает из сердца. Вслед за этим разъяренная струя крови как бы с ненавистью выплевывает остатки тромба. Предсердие свободно.
Хирург снимает перчатку с правой руки.
Нет! Операция не кончена. Операция на самой высшей точке.
Рука обмыта особым раствором, и указательный палец профессора входит в. глубину человеческого сердца!..
Отверстие клапана, ведущего из предсердия в желудочек, Должно быть диаметром три с половиной сантиметра. Но у больного клапан сужен пороком, мертвой хваткой оцепили его спайки. Диаметр его около шести миллиметров. Предсердие не может протолкнуть нужное количество крови.
Указательный палец хирурга слегка расширяет отверстие, указывая путь крови.
Теперь Борис Васильевич вводит в сердце пилообразный нож, изогнутый по пальцу, и надсекает спайки. Нож извлекается, и палец раздвигает края клапана. Другая рука придерживает сердце.
— Давление?
— Восемьдесят, — слышится ответ.
Это значит, что. давление крови резко упало.
— Переливание, — приказывает профессор. И протягивает руку. Еще звучит его приказ, а в руке его уже выпрямилась тонкая трубка, увенчанная иглой.
— Кровь! — говорит он.
И мгновенно из отверстия иглы протянулась багряная нитка крови. Борис Васильевич вводит кровь в аорту. Давление с восьмидесяти поднимается до ста тридцати.
Только, что могло остановиться, останавливалось, но не остановилось сердце. И вот уже смертный рубеж позади!..
Беззвучные движения врачей кажутся сновидением. Они понимают друг друга по взгляду. Они, как слаженный организм, едины.
О, если бы миллионы людей увидели, как борются врачи за человеческое сердце!.. Наверное, многие с большим уважением стали бы относиться друг к другу. Смягчились бы самые резкие слова и заранее бы продумывались чрезмерно самоуверенные поступки. Было бы так, потому что страшно ранимо человеческое сердце…
Все еще на столе лежит больной. Его сердце в руках Петровского. Теперь оно будет работать…
Я понял, что можно создавать космические корабли, можно расщеплять таинственные атомы, можно воздвигать громадные здания на века. Но самое главное, чтобы ровно стучало маленькое и великое, бессмертное и невечное, еще одно спасенное сердце. И тогда полетят, полетят космические корабли, тогда расщепленные атомы откроют нам свою огромную мощь, тогда возведенные здания приютят миллионы судеб. Все это будет, если будет работать сердце.
Тише!.. Идет операция.
Идет борьба за человеческое сердце…
Днем была ночь. Полярная ночь Арктики.
Перед смутными очертаниями безмолвных ледоколов едва различимыми точками возникли шесть человек. А ночь бушевала пургой, ночь гнала с полюса сухие, колючие и слепящие тучи снега, ночь стирала непреклонные контуры ледоколов, ломала мечи прожекторов, ночь хохотала, освистывала шестерых безумцев. И перед громадами ночи, пурги и ледоколов шесть человек становились все меньше. Они побелели от снега, словно побледнели перед грядущим. И думалось, что ночь и мороз, что вздыбленные торосы моря Лаптевых и ледоколы не только раздавят и сотрут в белый прах этих шестерых карликов, но просто и не заметят этого.
Ночь задыхалась от ярости, и тьма ее, прочеркнутая прожекторами, раскрывалась все черней и огромней, как утыканная клыками айсбергов свирепая пасть исполинской медведицы.
Но за этими шестью точками, как бы вмерзшими в ледяную пустыню, за этими шестью карликами, словно скованными страхом, за этими шестью человеками, убеленными пургой и опасностью, но не побледневшими перед ними, за этими людьми лежали сломленные ими преграды. И если бы у ночи, кроме гнева и жестокости, были бы еще глаза и память, ей бы открылось немало. За Александром Павловичем Мишиным стояли годы войны, годы потерь и побед, годы риска и напряжения: «Дорога жизни» на Ладожском озере, бессчетные подводные рейды в Финском заливе, на Балтике, на Севере и на Одере. Свыше пяти тысяч часов провел он под водой. И за одним из самых молодых — за Дорианом Котенко пылала скорбная и немеркнущая ленинградская эпопея, его сердце вобрало осколки снарядов, судеб и испытаний, обрушенных на великий и вечный Ленинград. За Николаем Михайловичем Губиным, за Василием Сокуром, за Александром Андреевым и за Виктором Мурашевым воспоминания раскрывали преодоленные глубины многих морей.