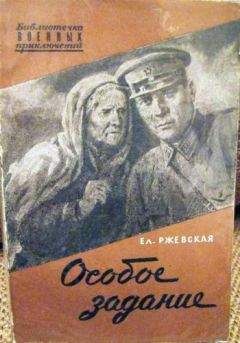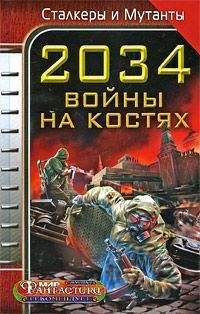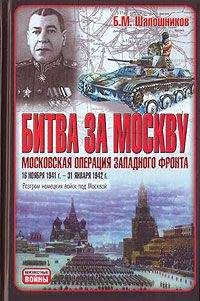— Закончим в другой раз, потому что тебе спешить в Самохино,— сказал командир полка. Он часто прихварывал и слабел заметно. Прощаясь с ним, я сказал, что из ячменя можно выпечь хлеб.
— Неплохо бы... Раненых поддержать надо... Займись-ка сам этим делом,— предложил гвардии подполковник.— Только сначала напиши на гвардии лейтенанта Фисенко боевую характеристику.
Я написал, особо подчеркнув, что Фисенко заслуживает награждения орденом Красного Знамени. Со мной согласились.
Вернувшись в Самохино, я занялся выпечкой ячменного хлеба, поручив командовать этим женским делом партизанской разведчице Полине. Мы познакомились с ней в первый же день появления конницы в Медведовском лесу. Накануне, во время остановки на марше, гвардии полковник Жмуров поручил мне связаться с партизанским отрядом, отметив на карте его примерное расположение. Ехать пришлось лесными просеками по бездорожью, часто кони проваливались по брюхо. Остановившись на одной из опушек, долго наблюдали за деревней. День выдался солнечный, мороз градусов десять. У колодца с наполненными ведрами о чем-то разговаривали две девочки. По их поведению я понял, что в селе фашистов нет. Когда мы приблизились к ним, они, увидев всадников, оставили ведра и, не оглядываясь, резво убежали в хату. Выслав двух разведчиков на другой конец деревни, мы с Семеном Хандагуковым вошли в ту самую избу, где скрылись девчонки. Хозяйка Аграфена Петровна встретила нас в кухне. Объяснили ей, кто мы такие. Когда дело дошло до партизан, тетка Аграфена закашлялась — этаким натужным, притворным кашлем, отрицательно мотая головой, твердила одно и то же:
— Не знаю...
Потом крикнула синеглазой девчонке с мальчишеским именем Степка:
— Иди ты, Степка, до дому, нечего тебе здесь торчать и ухи навастривать...
Степка шмыгнула в дверь, а хозяйка стала накрывать на стол.
— Кроме кислых пустых щей, угощать вас нечем. Живем, абы не подохнуть...
— Ничего не надо.
Вернулась Степка и привела с собой чернобровую, большеглазую особу в длинной желтой шубе. Она поздоровалась с нами, села и с небрежным видом стала лузгать семечки. Потом вдруг вскочила, поцеловала меня в небритую щеку, взяв за портупею, потащила на кухню, торопливо спрашивая:
— Вы правда Красная Армия, правда?
— Сама видишь!
— Переодетых, знаете, сколько бродит, с орденами да с документами...
— Ты права, но мы свои, кровные, советские! — Тут я подхватил гостью, поднял на воздух и поцеловал крепче, чем она сама, нащупав под шубой пистолет.
Поцеловались еще раз — она ткнулась головой в плечо, замерла на секунду, оторвалась и с печальной в глазах улыбкой прошептала:
— Даже не верится, что дождались!..
...Сейчас, кликнув женщин, Полина организовала сушку зерна. Они помогали бойцам сортировать ячмень и молоть ручными мельницами.
От жарко натопленной русской печи душисто пахло печеным хлебом. При свете самодельной, заправленной бензином лампы Полина зашивала на моем полушубке прожженные пулями дырки.
— Слава богу, что хоть ни одна не задела,— откусывая нитку, сказала она.
Ночью я проверил посты. Вернувшись, разделся. Обстановка была тревожной, и сон не шел. Мне все еще слышался звучный голос Феди Матюшкина. Он так хорошо пел кубанские песни! Силясь уснуть, я ворочался с боку на бок, вздыхал судорожно, чувствуя, что при каждом моем вздохе Полина поднимает голову и подолгу смотрит в мою сторону.
За стеной слышался гудящий шорох допотопных жерновов, мужские и женские голоса — молодые, беспечные, они работали и смеялись. Одним словом, там делалось дело и своим чередом шла жизнь.
— Вот и все,— тихо проговорила Полина и потушила бензиновое сооружение из консервных банок.
Смех за стеной стал заливистей, и жернов загудел еще веселее.
Над самым ухом в темноте я ощутил теплое, свежее дыхание женщины, и прядка душистых волос коснулась моей щеки.
Обрадованный этой желанной близостью, я повернулся и благодарно обнял Полину. Ее грудь была плотно обтянута толстым, домашней вязки, свитером; тронув ладонью мой лоб, она проговорила тихо, просительно:
— Ничего не надо. Спи...
Я знал, что у Полины в первые дни войны погиб на границе муж. Война отняла у нее и двухлетнюю девочку, когда долго пробиралась по занятой врагом земле в свое родное Самохино.
Тогда я был благодарен женщине за то, что она находилась рядом... Убаюканный ее спокойным дыханием и доверчивостью, я тут же заснул.
...Нам становится все труднее. Ячмень дал лишь временное облегчение. Забиваем слабых, отощавших коней... Идти на прорыв не можем. Круглосуточно сидящие в обороне люди ослабли. У нас совсем мало осталось боеприпасов. Ждем самолеты, чтобы отправить раненых. А дни стоят хмурые и непогодные. По вечерам от болот налезает такой туманище, что еле видно пламя костра.
На чурбаке сидит командир полка гвардии подполковник Сапунов.
Голова его в черной папахе никнет к неярко горящему костру, где варится в большом ведре конское мясо. Папаха опускается все ниже и ниже — вот-вот вспыхнет ее курчавая шерсть. Я осторожно тронул его за плечо.
— Спасибо. Задремал.— Он поднял голову.— Ты небось удивляешься, зачем мне, старому черту, надо было принимать командование полком?
Меня этот вопрос застал врасплох. Ему перевалило за шестьдесят лет. До этого он был помощником командира 20-й дивизии по хозяйственной части.
— Я ведь кадровый командир еще с той войны, бывший вахмистр. Одним из первых пошел в Красную гвардию. Надоело мне быть хозяйственником, захотелось настоящего, горячего дела...
Михаил Степанович Сапунов прибыл к нам, когда уже был отдан боевой приказ о выдвижении частей корпуса на исходный рубеж. С первых же дней мы попали в сложное положение. И было заметно, как нелегко командиру полка в его возрасте переносить тяготы боевых будней. Полком, по сути дела, командовал я. Как обычно, отдавал распоряжение от его имени с последующим ему докладом.
Через два дня после разгрома вражеского гарнизона в нашу с Семеном землянку неожиданно заглянул Георгий Бабкин.
— Разрешите?— Он неловко приложил левую руку к ушанке. Правая беспомощно висела на марлевой повязке.
— Ты почему здесь?— спросил я, удивившись его появлению.
— Не смог я...
— Там ведь врачи, сестры? У Георгия был жалкий вид.
— Я не могу без товарищей, без тебя...
«Хорошо, что ты пришел, Георгий»,— подумалось мне. Вслух спросил:
— Что же ты можешь делать?
— Печку топить, мясо варить.
Так Георгий стал у нас истопником и кашеваром.
А через несколько дней мы получили страшное известие: фашисты захватили наш госпиталь. Всех раненых, которые не в состоянии были двигаться, добивали прямо на лежаках, а ходячих и почти весь медицинский персонал загнали в крытые машины и увезли в неизвестном направлении.
— Значит, не там уготовила мне судьба смертушку... Но я клянусь: если останусь жив, то найду хоть одного из тех зверей. Найду! — сказал гвардии лейтенант Бабкин и закрыл лицо снятой с головы ушанкой.
— В сутках, товарищи; не будет часа, чтобы мы не вспомнили об этом преступлении,— заявил перед строем гвардии полковник Михаил Алексеевич Федоров. Ошеломленные этим непостижимо дичайшим злодеянием, мы стояли на морозе без шапок. Да, не должно быть такого часа!..
У гвардии подполковника Дмитрия Ефимовича Калиновича удручающий на лице сумрак. После того как он прикрыл нас на Ржевском большаке, полк его прошел по тылам врага более двухсот пятидесяти километров, не потеряв ни одного человека. Пушки провел, радиостанцию на двух автомашинах. Все это закопали в землю в глубине леса. Снарядов к ним нет и не предвидится.
Мы знали, что противник ведет усиленную разведку, снимает с разных направлений пехотные, моторизованные и авиационные части, методично занимает населенные пункты, прилегающие к Медведовскому лесу, стремясь окружить нас и разгромить. В одну из ночей мы тихо снялись и ушли в Кучинский мох, где давно уже готовили площадку для приема самолетов.
С утра до позднего вечера «юнкерсы» бомбили наши пустые землянки.
Наконец прилетели наши самолеты, сбросили нам боеприпасы, сухари, концентраты, соль, лыжи и белые маскировочные халаты. На расчищенную площадку мы стали принимать «У-2». Первым же рейсом был отправлен командир полка гвардии подполковник Сапунов. Мы с лейтенантом Бабкиным довели его до трапа. Проводить командира полка приехали комдив Михаил Данилович Ягодин, замполит Михаил Алексеевич Федоров, начальник штаба Борис Ефимович Жмуров. Когда воины прощаются на вечный круг — эта минута бывает священной. Не под знаменем хмурились, не под барабанный бой печалились...
Одним из последних рейсов улетел Георгий Бабкин. Перед этим ходил за мной как неприкаянный в застегнутом поверх раненой руки полушубке, с досадой в голосе твердил: