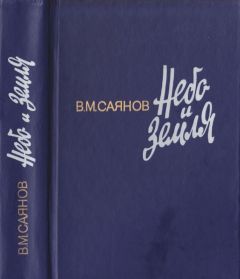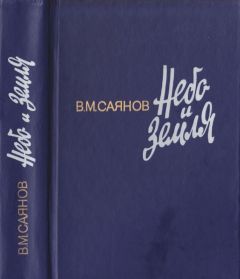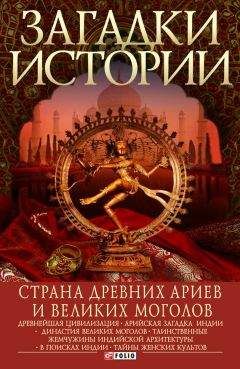— До чего ты вспотела! — удивлялся он. Вскоре боли ее отпускали, и она улыбалась ему.
— Послушай, Тимиос, — сказала она однажды, поглаживая его по голове. — Если я когда-нибудь упаду и перестану шевелиться… ступай к отцу Герасимосу, и он отправит тебя к дяде в Афины. — Тут мальчик почувствовал, как ее рука скользнула ласково по его спине.
— А ты?
Она поцеловала его, и он спрятал голову у нее на груди.
— Хоть бы ты, сынок, вышел в люди, — прошептала она.
Наступил декабрь. Тимиос с грустью смотрел на голые поля, вспоминал майских жуков, птиц, сочные груши, пахучую землю. А потом пришла та страшная ночь. Спиридула с трудом сдерживала стоны, боясь напугать его. Но он слышал, как она беспокойно ворочалась. Он тихонько вылез из соломы и вышел во двор. Жбан с водой он забыл вчера возле козы. Взяв жбан, Тимиос поспешил обратно в дом. На пороге он остановился, прислушиваясь. Ни звука.
Мальчик страшно испугался. Подскочил к соломенной подстилке.
— Мамка, — прошептал он.
Спиридула не шевелилась.
Он смочил ей голову и стал терпеливо ее расталкивать.
— Проснись же, проснись… — Жбан уже был пустой. — Ну пожалуйста, проснись. Я не хочу жить у дяди! — кричал он, обливаясь слезами.
Потом он зарылся поглубже в солому рядом с матерью, прижался щекой к ее плечу. Он больше не теребил ее. Он просто ждал…
Рассвело.
Тимиос нежно погладил мать по волосам, вышел во двор, напоил козу, закопал свою рогатку возле изгороди и поплелся к дому священника.
Козу и все, что нашлось в хижине, отец Герасимос взял себе в счет похорон и железнодорожного билета для Тимиоса. Пришла из деревни попадья, собрала в узел жалкий скарб, а козу привязала к своему мулу.
— Ну ступай, да благословит тебя бог, — пробормотал он, протягивая мальчику для поцелуя руку.
Тимнос даже не шевельнулся. Он не хотел целовать эту морщинистую руку. Наконец, повесив через плечо котомку, он поплелся на станцию…
Парнишка поднялся с тротуара и медленно побрел по улице, прислушиваясь к городскому шуму. Пройдя немного, он робко протянул письмо полицейскому.
— Я сын Спиридулы. Ищу своего дядю Стелиоса, у него бакалейная лавка, — сказал он.
Клио немного постояла возле закрытой двери. Она уже не смеялась. Машинально взяла свое вышивание и села на диван. Она нетерпеливо дергала нитку, и, когда смотрела на пестрый рисунок, глаза ее застилал туман.
Резким движением Клио воткнула иглу в полотно. Она вспомнила про сватовство. Видно, Урания окончательно спятила. Надо с самого начала отвадить жениха, этого Толстяка Янниса. И чего Урания без конца ей напевает о его деньгах? Теперь ей, Клио, придется ходить в другую мясную лавку, на площади. Боже мой! Значит, никто не в состоянии ее понять?
Пройдя возле нее, мать скрылась в соседней комнате. Оттуда донесся ее сердитый голос: «Опять клянчишь у него деньги?» Потом жалкие оправдания отца. Клио нахмурилась, привстала с дивана; казалось, она бросится сейчас в соседнюю комнату, вцепится в горло матери. «Она довела его до этого. Из-за нее стал он пьяницей, опустился совсем», — с ненавистью подумала девушка.
Клио до сих пор верила в свою правоту, вспоминая, как она впервые по-детски восстала против матери. Возможно, все произошло из-за ее чрезмерной впечатлительности. С тех пор она отдалилась от матери, замкнулась и стала чувствовать себя несчастной. Воспоминание о событиях той ночи часто преследовало ее.
…Это случилось вскоре после их разорения, когда она сидела по ночам, вышивая салфетки. С самого детства проявился у нее талант к вышиванию. Пальцы ее были точно созданы для рукоделия; eй было приятно, когда из ее рук выходили красивые вещи. В хорошее время, до того, как случилось несчастье, все восхищались ее работой, а отец, нежно погладив ее пальцы, целовал их, приговаривая: «Богом клянусь, Мариго, это просто невероятно! Чтоб из этих ручек…» И он снова целовал пальцы Клио. А потом она дни и ночи сидела с иголкой в руке. Все в доме тогда совсем потеряли голову. Мариго обивала чужие пороги, предлагая богатым дамам разные вышивки. Вечером она возвращалась измученная и расстроенная, потому что почти всем приходилось ей рассказывать о своем горе, плакать и умолять, чтобы у нее хоть что-нибудь купили. Большинство людей, конечно, указывало ей на дверь, но если кого-нибудь и удавалось разжалобить, то это ей стоило стольких усилий! Дома Мариго, измученная, опускалась на стул и, словно очнувшись от тяжелого сна, с тоской смотрела на детей. Клио не понимала переживаний матери. Жизнь стала для девочки такой безрадостной! Перед ее глазами беспрерывно мелькали узоры, выходившие из-под ее иглы. В то время отец стал возвращаться домой поздно. Ах, эти ночи!
Мать не спала, с корзинкой на коленях она сидела возле Клио и латала, латала белье. Хмурая, суровая, неумолимая, она не отпускала от себя дочь, пока та не кончит работу. А у девочки путались нитки, игла колола пальцы, и ей так хотелось услышать ласковое слово, поговорить самой, но мать упорно молчала. Склонившись над работой, они прислушивались к бою старых часов на буфете. Никос и Элени спали, тепло укрытые матерью. Ради Илиаса Мариго отставляла в сторону свою корзинку и шла разогревать ему ужин, потом целовала его на ночь. А Клио была самая старшая, и ни у кого не находилось для нее ласкового слова. Клио подолгу молча наблюдала за матерью.
Ах, эти ночи!
Сначала доносился скрип железных ворот, потом шаги отца во дворе.
Работа прекращалась.
Хараламбос, шатаясь, входил в комнату: он не замечал, что глаза жены и дочери покраснели от бессонницы. Подойдя к Мариго, он по старой привычке спрашивал о детях. Хараламбос еще не утратил своей добродушной улыбки. Но от него несло винным перегаром, и Мариго, чтобы скрыть свою неприязнь, еще ниже склонялась над корзинкой с бельем. Клио трясла нервная дрожь: опять никто не обратил на нее внимания. Потом Хараламбос ложился на диван и принимался честить тех, кто закрыл ему путь в торговлю. Он кричал, бранился, угрожал кому-то:
— Вот жулики! Вот негодяи! Подлецы! Получайте, жулики паршивые, так вас… Мы еще сочтемся!..
Клио исподтишка наблюдала за мрачным лицом матери. Ее удивляло, что та молчит, продолжая заниматься починкой.
Видно было, что Хараламбос впал в отчаяние. Но в то время ни Мариго, ни остальные близкие не подозревали, как сильно он изменился. Даже голос его с каждым днем становился все более хриплым и неприятным. Но в душе Клио разрасталась нежность к отцу, странная, неведомая ей раньше любовь, рождавшая бесконечные мечты в часы грусти, когда она сидела с иголкой в руке.
Однажды вечером, в тот день, когда Илиас бросил школу и поступил подмастерьем в слесарную мастерскую, Хараламбос вернулся домой в ужасном виде. Он едва держался на ногах. Схватившись за стол, он начал кричать:
— Чем я виноват? Почему мне затягивают петлю на шее? Негодяи, подлецы…
Он угрожающе размахивал руками. Изо рта его сыпалась грубая, грязная брань.
Вдруг Мариго, заткнув уши, набросилась на него:
— Перестань, Хараламбос! До чего ты дошел! Напиваешься, а потом несешь сам не знаешь что, Хоть бы детей постыдился! Разве ты не понимаешь, что так ты совсем пропадешь? — Она увидела, что он смутился, и продолжала более сдержанным тоном: — Прости меня. Ах, Хараламбос! Погибли все мои надежды. Больше ты от меня не услышишь ни одной жалобы… Иногда в голове у меня такой туман… Поговори со мной, Хараламбос, спокойно. Пожалуйста, поговори со мной…
Ей очень этого хотелось, но он, не сказав ни слова, ушел среди ночи из дому.
Опять мать с дочерью остались одни. Уткнувшись лицом в ладони, Мариго тихо плакала. Совсем тихо, словно боясь заглушить бой часов.
— Ты виновата, — вспыхнув, прошептала Клио.
Мать встала.
— Ложись спать, — сказала она и вышла из комнаты.
Но девочка продолжала сидеть на диване. Она больше не вышивала. Она ждала.
Часа в три ночи вернулся Хараламбос. Он шел по улице, держась за стены. У забора дровяного склада он остановился, хриплым старческим голосом завыл что-то похожее на песню, потом задохнулся от кашля.
Клио, услышав его голос, вздрогнула.
Сосед бакалейщик, дядя Стелиос, открыл окно и закричал на пьяного:
— Будь ты проклят! Житья от тебя нет!
Хараламбос упал лицом прямо в грязь, а лавочник разбудил свою жену:
— Больше не давай в кредит этому пьянчуге, — сказал дядя Стелиос. — Он у нас и так немало всего перебрал. Столько лет был хорошим покупателем, порядочным человеком. Бог все знает и видит, разве я не помогал ему в беде?
Лавочник лег на кровать рядом со своей толстой супругой. Он напрасно беспокоился. Его постоянный покупатель и сосед больше не заходил к нему в лавку и домой не приносил ни гроша.