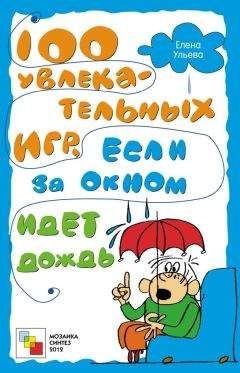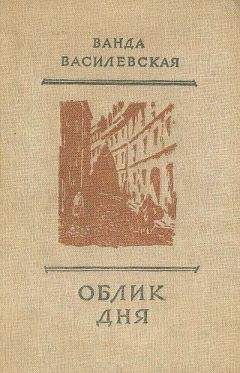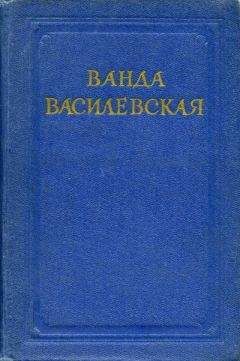Когда же окончится эта призрачная ночь? Минуты текли медленно, тянулись в бесконечность, останавливались и не проходили. Всё перепуталось в сознании — Гриша, умирающий, Раиса, директор. Когда это она была у директора? Вчера, позавчера, год назад? Да и была ли она у него?
Который час? Она взглянула на часы, но они стояли. Шёпот раненого всё продолжался, пронизывающий, непрестанный.
Ещё один листок со скорбным сообщением. Только в этом случае напишут: умер от ран. Кто получит роковой листок, кому он затемнит сияние солнца, кому перечеркнёт дни чёрной чертой, за которой уже нет ни счастья, ни радости?
Она подошла к окну и приподняла штору. Квадраты стёкол обозначились едва заметными помутневшими, серыми пятнами. Мария погасила лампу. Бледный зимний рассвет медленно просачивался в комнату. Из мрака выступил столик у койки, стакан, бутылочка с лекарством, голова раненого на подушке, жёлтое восковое лицо, чёрные глазницы, потрескавшиеся губы, слипшаяся прядка волос на лбу.
Он ещё шептал, всё тише и тише. И всё быстрее шевелились пальцы на одеяле.
Светало. И это наступающее утро словно поглощало последние силы умирающего, словно впитывало их в себя и за их счёт крепло, разрасталось, преодолевало тени, побеждало ночь.
Когда все предметы в комнате обозначились ясно и когда последние клочья мрака попрятались по углам, растаяли, Мария увидела, что пальцы перестали шевелиться. Губы застыли в неподвижности. Раненый умер совершенно тихо, широко открытые глаза были устремлены на белизну потолка. В них застыл беспокойный вопрос, на который уже никто не мог дать ответа.
Мария вздохнула и позвонила. Приплелась заспанная санитарка.
— Умер, — сказала она ей сухо. — Я ухожу.
Она сошла вниз, с трудом переставляя одеревяневшие ноги. Никак не удавалось застегнуть воротник пальто. О ботиках она забыла.
Сзади крупными шагами спускался Воронцов. Его дежурство заканчивалось в это же время.
— Уходишь, Мария? — задал он ей бессмысленный вопрос. Ведь он же видел, что она уходит. Мария взглянула на него невидящими глазами.
— Ухожу…
Голос был глухой, изменившийся. Под глазами чёрные круги, щёки ввалились. Она не двигалась, словно ей трудно было нажать ручку двери.
— Я провожу тебя домой.
Она запротестовала:
— Домой? Нет, нет, только не домой…
У подъезда стоял автомобиль. Она хотела обойти его, но Воронцов осторожно взял её за локоть и подвёл к дверце. Она безвольно двигалась. И лишь очутившись внутри, удивилась:
— Машина?
В сущности, это её вовсе не интересовало. Она спросила, не думая, просто так. Впрочем, ей показалось совершенно естественным, что есть машина. Ведь иначе она не дошла бы до трамвая. С минуту она соображала: собственно говоря, почему? Ведь она каждый день возвращалась домой, шла к трамваю, а сегодня не может. «Что произошло, что случилось?» — пыталась она вспомнить.
— Это директорская. Поедем ко мне, тебе в самом деле нельзя сейчас возвращаться домой.
— Нельзя… Нельзя… Нельзя… — повторяла она. Что нельзя? Ну да, было что-то такое невозможное, что-то такое, чего нельзя преодолеть…
— Гриша погиб, — сказала она вдруг.
Воронцов взял её руку в свои.
— Я знаю, Мария.
Он вывел её из машины. На мгновение она удивилась, куда это они идут. Ведь это же не та лестница. А его ответа она не слышала.
Заскрежетал ключ в замке. Прихожая, комната. Она остановилась на пороге, не зная, что ей надо делать.
— Приляг, Мария. Ты должна отдохнуть. Сейчас я приготовлю чай, ты позавтракаешь.
При мысли об еде она почувствовала внезапный приступ тошноты. И снова, как гвоздь, вколачиваемый в череп, назойливо застучало слово:
«Должна, должна, должна…»
Что такое она должна? Да, да, что-то нужно было выполнить, какой-то беспощадный долг, от которого нельзя уклониться.
Она села на тахту, бессмысленно глядя в окно. На ветру качались обнажённые ветви деревьев. Туда и сюда, туда и сюда…
— Почему ты не сняла пальто? Сними, тут тепло.
Она посмотрела на него непонимающими глазами. Он подошёл, снял с неё пальто, берет.
— У тебя совершенно мокрые ноги. Как можно в такую погоду без ботиков? Несколько шагов до машины и уже промочила.
Она продолжала, ничего не слыша, смотреть в окно. Он встал на колени и снял с неё туфли, стащил мокрые чулки. На секунду безудержным, внезапным движением прижался головой к её коленям. Она машинально положила руку на его голову. Стоя на коленях, он обнял её.
— Мария, Мария…
Но тут же он понял, что она его не видит и не слышит. Мария мёртвыми глазами смотрела в окно. Он прикусил губу и встал. Осторожно уложил её на тахту, прикрыл пледом. Она позволила укутать себя, неподвижная и безвольная, как большая кукла.
В электрическом чайнике закипела вода. Он заварил чай и со стаканом в руках сел возле неё.
— Пей, ты должна хоть немного выпить.
Он осторожно поил её с ложечки, как ребёнка. Тёплая струйка разливалась по внутренностям, согревала. Она жадно пила.
— Ты должна чего-нибудь поесть.
Она откинулась назад, почувствовав новый приступ тошноты.
— Нет, нет, нет!
— Нельзя так, Мария, ты должна поесть, уснуть, отдохнуть.
— Нет…
— Не упрямься. Нужно жить… Что случилось, того не вернёшь… А жить нужно…
— Нужно? — сказала она не то вопросительно, не то удивлённо. А затем, глядя в окно, деревянным голосом:
— Гриша погиб…
— Слушай, Мария, слушай: люди гибнут, это война, это ведь война… Ты сама знаешь, не одна ты… Оставляют жён, детей, возлюбленных… Война ведь… А те, что остаются, должны жить, работать за них, и за себя.
— А Гриша погиб, — повторила она тем же тоном.
— Да, Мария, это и есть цена победы… Понимаешь, цена победы… И Гриша, и другие…
— А ты жив, — сказала она вдруг громко, отчётливо и злобно усмехнулась.
Красное пламя залило его узкое лицо.
— Мария, ты же знаешь!
Да, она отлично знала. Тяжёлый порок сердца. Кроме того, он ведь врач, специалист, хирург, работает там, где больше всего нужен.
Неизвестно почему пламя, залившее лицо врача, доставило ей удовольствие. И то, что у него стали дрожать руки. Вот этого ей и хотелось, задеть его чем-нибудь, больно, несправедливо, некрасиво, так, чтобы было как можно больнее.
Он сидел бледный и несчастный. Ей подумалось, что, собственно, надо бы его пожалеть, но ей доставляло удовольствие именно то, что он сидит такой несчастный, он, крупный специалист, доктор Виктор Николаевич, перед которым дрожат начинающие. Сидит, как мальчик, и его маленькие усики, словно приклеенные над верхней губой, смешно дрожат.
Вдруг её, как обухом, ударила мысль о том, что произошло. Никакого значения не имело то, что она уже несколько раз повторяла страшные слова. Она повторяла их губами, как непонятную, лишённую содержания формулу на незнакомом языке. Она села и начала дрожать всем телом. Глубокое отчаяние расширило её зрачки, глаза стали почти чёрными. Она ломала руки.
— Гриша погиб!
Воронцов бросился к ней. Она дрожала, тряслась, ловила губами воздух. Откуда-то из самой глубины её существа подступали рыдания и разрывали её тело, пока она, наконец, не разразилась ужасающим, громким, неудержимым плачем.
Он сидел рядом, осторожно обняв её. Мария положила ему голову на плечо, как ребёнок. Он держал её в объятиях, словно желая спасти, защитить, загородить от всего дурного, от всего мира, от беспощадной судьбы. В этот момент он не ощущал ничего, кроме безграничной нежности, безграничной жалости, братской любви к обиженной, покинутой, бездомной сестрёнке, у которой, кроме него, не осталось никого на свете.
Плач перешёл в рыдания, в детское всхлипывание. Он встал и подал ей порошок. Она отрицательно покачала головой, но выпила. Зубы застучали по краю стакана.
— Теперь ты будешь спать, — сказал он и, накрыв её ещё одним одеялом, подложил под голову подушку. Мокрые ресницы опустились на щёки. Он сел рядом и, держа её за руку, смотрел, как она спит, от времени до времени потрясаемая беспомощным всхлипыванием. Щёки были мокры от слёз, мокры от слёз были сияющие, светлые волосы на висках. Вдруг ему больше всего на свете захотелось коснуться губами этих волос, но он со вздохом отвернулся.
Воронцов встал и подошёл к окну. Шёл дождь, мелкий, пронизывающий. Во дворе суетились люди у грузовика. Высокий плечистый человек одним движением забросил себе за спину мешок, и Воронцов увидел, как широкая улыбка осветила его загорелое лицо. Ребёнок пытался перескочить через лужу и, не допрыгнув, поднял стоптанными башмаками целый фонтан воды. Человек с мешком за плечами рассмеялся, и Воронцов даже издали увидел ослепительную белизну его зубов.
Из книги выпал засушенный ландыш, пожелтевший, неживой цветок. Когда-то он цвёл на опушке, в тени низких кустов, пахнущих свежей зеленью. Выглядывал из полуразвёрнутых листьев чарующей белизной зубчатых колокольчиков. Стлал крепкий сладкий аромат по земле, ещё усеянной прошлогодними сухими листьями. Следуя за струёй аромата, они дошли до этого уголка, тенистого, влажного, полного росы и вздохов земли, пробуждающейся от долгого сна. Их пальцы встретились в ландышевой чаще в весенней красе, среди гладких, блестящих листьев, среди гибких стеблей. Их руки обнялись крепким, братским, сердечным пожатием. Пальцы сорвали белый ландыш. Так он и остался, вложенный в книгу на память о том дне, который миновал и прошёл в ряду других дней, выделяясь из них белым ландышевым ароматом, блеском росы на шёлке листьев. Да, был такой ландышевый день. Её и Гришин день.