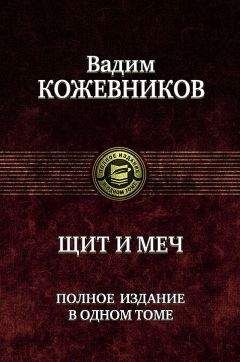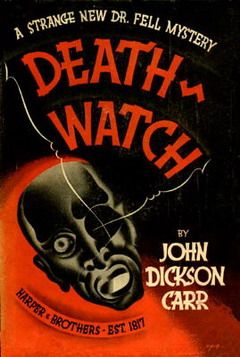— Вы собираетесь учинить мне экзамен? — недружелюбно спросил Вайс. — Один я уже как будто бы выдержал.
— Отнюдь! — запротестовал Бруно. Но тут же сам возразил себе: — А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня — нисколько. — Спросил: — Хотите конфетку? Сладкое удивительно благотворно действует на нервную систему.
Вайс спросил хмуро:
— Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?
Бруно опустил глаза и, не отвечая на вопрос, осведомился:
— Вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве? — Поднял глаза, неодобрительно поглядел на низко нависшие тучи, произнес скучным голосом: — Я бы на вашем месте не проявлял столь поспешно охоты ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не понравиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать.
— Я же хотел… — попытался оправдаться Вайс.
— Все, все понятно, голубчик, чего вы хотели, — добродушно прервал Бруно, — и вы были почти на верном пути, когда порекомендовали Папке выяснить через Генриха у Вилли Шварцкопфа список резидентов. И вы правы, Папке — тупой солдафон. Но недостатки его интеллекта полностью искупаются чрезвычайно развитой подозрительностью. Это его сильная сторона, которую вы недоучли, как недоучли и то, что Папке — мелкий гестаповец, а только самая крупная фигура в гестапо может быть осведомлена о таком важном списке. Ни Папке, ни Функ к этому не могли быть допущены. Есть и другие лица, совсем другие… — Бруно ласково улыбнулся Вайсу. — Но вы не обижайтесь. Я ведь старше вас не только по званию, опыту, но и по возрасту. — Помолчав, добавил: — Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности — это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что люди, направляющие вас, достаточно осведомлены о неизвестных вам многих обстоятельствах. И всегда бывает так, что лучше отказаться от чего-то лежащего на пути к цели, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. Вы меня понимаете?
— Да, — согласился Вайс. — Вы правы, я увлекся, нарушил инструкцию, принимаю ваш выговор.
— Ну что вы! — усмехнулся Бруно. — Когда дело доходит до выговора, человек уходит и на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом — несколько дружеских советов. — Зевнул, пожаловался: — А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей. Плохо себя чувствую. Свинина мне противопоказана.
— Может, вы у меня отдохнете и примете лекарство?
— Ну что вы, Иоганн! — укоризненно заметил Бруно. — Мы же должны только на вокзале обрадоваться встрече после нескольких месяцев разлуки. Кстати, — с довольным видом сообщил Бруно, — я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии — по крайней мере наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней непригоден. Это — очень счастливое для меня обстоятельство. В худшем случае — служба в тыловой армейской канцелярии, против чего я бы отнюдь не возражал. И если вы напомните о старике Бруно вашему другу Генриху, это будет очень мило. — Улыбнулся. — Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью… — И многозначительно подчеркнул: — Эльзой.
— Ну да, Эльзой, — уныло подтвердил Вайс. — У нее были белокурые волосы, голубые глаза, она прихрамывала на левую ногу, повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева.
— Стандартный портрет. Но что делать, если таков был и оригинал? — пожал плечами Бруно. Потом сказал деловито: — Ну, вы, конечно, догадались, визит неизвестного и диалог о вашем отце носили чисто тренировочный характер, как, впрочем, и наша сегодняшняя встреча. — Подал руку, приподнял тирольскую шляпу с обвисшим перышком, церемонно простился: — Еще раз свидетельствую свое почтение. — И ушел в темноту, тяжело шлепая по лужам.
Во втором часу ночи, когда Вайс проходил мимо дома профессора Гольдблата, весь город был погружен в темноту, светилось только одно из окон этого дома. И оттуда доносились звуки рояля. Вайс остановился у железной решетки, окружающей дом профессора, закурил.
Странно скорбные и гневные, особенно внятные в тишине, звуки реяли в сыром тумане улицы.
Вайс вспомнил, как Берта однажды сказала Генриху:
— Музыка — это язык человеческих чувств. Она недоступна только животным.
Генрих усмехнулся:
— Вагнер — великий музыкант. Но под его марши колонны штурмовиков отправляются громить еврейские кварталы…
Берта, побледнев, проговорила сквозь зубы:
— Звери в цирке тоже выступают под музыку.
— Ты считаешь наци презренными людьми и удивляешься, почему они…
Берта перебила:
— Я считаю, что они позорят людей немецкой национальности.
— Однако, — упрямо возразил Генрих, — не кто-нибудь, а Гитлер сейчас диктует свою волю Европе.
— Европа — это и Советский Союз?
— Но ведь Сталин подписал пакт с Гитлером.
— И в подтверждение своего миролюбия Красная Армия встала на новых границах?
— Это был ловкий фокус.
— Советский народ ненавидит фашистов!
Генрих презрительно пожал плечами.
Берта произнесла гордо:
— Я советская гражданка!
— Поздравляю! — Генрих насмешливо поклонился.
— Да, — сказала Берта. — Я принимаю твои поздравления. Германия вызывает сейчас страх и отвращение у честных людей. А у меня теперь есть отечество, и оно — гордость и надежда всех честных людей мира. И мне просто жаль тебя, Генрих. Я должна еще очень высоко подняться, чтобы стать настоящим советским человеком. А ты должен очень низко опуститься, чтобы стать настоящим наци, что ты, кстати, и делаешь не без успеха.
Вайс вынужден был тогда уйти вместе с Генрихом. Не мог же он оставаться, когда его друг демонстративно поднялся и направился к двери, высказав сожаление, что Берта сегодня слишком нервозно настроена.
Но когда они вышли на улицу, Генрих воскликнул с отчаянием:
— Ну зачем я вел себя как последний негодяй?
— Да, ты точно определил свое поведение.
— Но ведь она мне нравится!
— Но почему же ты избрал такой странный способ выказывать свою симпатию?
Генрих нервно дернул плечом.
— Я думаю, что было бесчестно скрывать от нее мои убеждения.
— А то, что ты говорил, — это твои подлинные убеждения?
— Нет, совсем нет, — вздохнул Генрих. — Меня мучают сомнения. Но если допустить, что я такой, каким был сегодня, сможет ли Берта примириться с моими взглядами ради любви ко мне?
— Нет, не сможет, — с тайной радостью сказал Вайс. — И на это тебе нельзя рассчитывать. Ты сегодня сжег то, что тебе следовало сжечь только перед отъездом. Я так думаю.
— Возможно, ты и прав, — покорно согласился Генрих. — Я что-то сжигаю в себе и теряю это безвозвратно.
Всю дорогу они молчали. И только возле своего дома Генрих спросил:
— А ты, Иоганн, тебе нечего сжигать?
Вайс помедлил, потом ответил осторожно:
— Знаешь, мне кажется, что мне скорее следовало бы подражать тебе такому, каким ты стал, чем тому Генриху, которого я знал раньше. Но я не буду этого делать.
— Почему?
— Я боюсь, что стану тебе неприятен и потеряю друга.
— Ты хороший человек, Иоганн, — сказал Генрих. — Я очень рад, что нашел в тебе такого искреннего товарища! — И долго не выпускал руку Вайса из своей.
Дождь иссякал, опорожненное от влаги небо светлело, а музыка звучала все более гневно и страстно. Иоганн никогда не слышал в исполнении Берты эту странно волнующую мелодию. Он силился вспомнить, что это, и не мог. Встал, бросил окурок и зашагал к авторемонтной мастерской.
Утро было сухое, чистое.
Парки, скверы, бульвары, улицы Риги, казалось, освещались жарким цветом яркой листвы деревьев. Силуэты домов отчетливо вырисовывались в синем просторном небе с пушистыми облаками, плывущими в сторону залива.
На перроне вокзала выстроилась с вещами последняя группа немцев-репатриантов. И у всех на лицах было общее выражение озабоченности, послушания, готовности выполнить любое приказание, от кого бы оно ни исходило. На губах блуждали любезные улыбки, невесть кому предназначенные. Дети стояли, держась за руки, ожидающе поглядывая на родителей. Родители в который уже раз тревожными взглядами пересчитывали чемоданы, узлы, сумки. Исподтишка косились по сторонам, ожидая начальства, приказаний, проверки. Женщины не выпускали из рук саквояжей, в которых, очевидно, хранились документы и особо ценные вещи.
Крейслейтеры и нахбарнфюреры, на которых вопросительно и робко поглядывали переселенцы, к чьей повелительной всевластности они уже давно привыкли, держали себя здесь так же скромно, как и рядовые репатрианты, и ничем от них не отличались. Когда кто-нибудь из отъезжающих, осмелев, подходил к одному из руководителей «Немецко-балтийского народного объединения» с вопросом, тот вежливо выслушивал, снимал шляпу, пожимал плечами и, по-видимому, уклонялся от того, чтобы вести себя здесь как начальственное и в чем-либо осведомленное лицо.