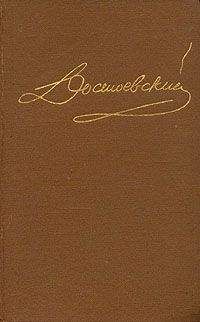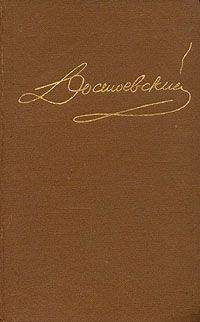— Снять лыжи! — приказал я.
И все стали снимать. Но как только мы сняли лыжи, мы провалились по пояс в снег.
По пояс в снегу передвигаться нелегко, тем более на подъеме, да еще когда за спиной груз и на плечах лыжи и палки.
Ребята стали ругаться.
— Скоро ли окончится этот чортов подъем? — выругался Лейно.
Он тащил, кроме всего прочего, еще и пулемет; он был сухощав и напорист, но, сойдя с лыж, потерял, кажется, обычную для себя уверенность.
Пожалуй, один только Тойво был доволен тем, что мы сошли с лыж.
Он оказался в равных условиях даже с самыми лучшими бегунами. Он был крепыш и во французской борьбе в товарищеском кругу почти всегда выходил победителем.
Снег забивался в валенки и таял, как дыхание.
Дыхание возносилось легчайшим паром к черному зимнему небу. На небе звезды расположились обычным порядком, не замечая наших усилий.
Мы протолкались сквозь густой, местами липкий, как глина, местами рыхлый, как зубной порошок, снег.
Мы цеплялись руками за выступы камней, скал, царапая руки в кровь, обламывая ногти, с лыжами на плечах и растопляющим все морозы желанием во что бы то ни стало выполнить поручение, доверенное нам революцией.
Мы карабкались вверх, срываясь, разрывая балахоны, тяжело дыша.
Я остановился, чтобы отдохнуть хотя бы секунду, и услышал отдаленный волчий вой, услышал, как нетронутую тишину зимней ночи разрывало тяжелое дыхание — сопение сотни молодых ребят; ни звука, лишь прерывистое дыхание, лишь редкая ругань — сдержаться трудно — да дальний волчий вой, да снег впереди, где за каждым нечаянным камнем, может быть, поджидает свинец или топор лахтаря.
Пальцы на руках коченели, подъем становился все круче.
Кто-то из ушедших вперед ребят сорвался: он бросил свои палки, и его потянуло вниз — с винтовкой, котелком, мешком за плечами.
Он проскользнул между нами, не успев ухватиться за протянутую лыжу, и, изо всех сил стараясь остановиться, неудержимо шел вниз.
Подъем становился все круче.
Парни выдыхались.
Лейно, шедший впереди, встал на колени. Мы все один за другим стали на колени и поползли вперед, цепляясь за каждый выступ.
Рядом со мной полз уже Суси, начальник нашего штаба.
Суси — по-фински волк, но ничего волчьего не было в его круглом белом лице, на котором проступили капли тяжелого пота.
Позади Суси, тоже на коленях, карабкался комрот Хейконен.
— Мы им припомним этот переход, — бормотал он, — мы их заставим проползти на коленях все кряжи Суоми...
— Сколько еще осталось так ползти? — спросил меня Тойво. — Если долго, так мы все можем здесь остаться навсегда. Если остановка на отдых, — замерзнут ребята.
— Тише, Тойво, ни один не должен остаться здесь, — сказал я, уже почти задыхаясь.
Левая ладонь у меня была рассечена в кровь.
Мы ползли на коленях дальше.
Подъему, казалось, не было конца-края. И вот Лейно сел на камень, положил поперек колен пулемет и молча заплакал. Я видел, как прозрачные слезы выкатывались из его светлых глаз и замерзали на щеках. Он плакал молча. Я никогда никому не поверил бы, что Лейно может плакать, пока не увидел этого своими глазами.
Лейно плакал, и свет луны сиял на его пулемете.
Бессильные лыжи лежали у ног его, и две палки, как свечи, стояли по сторонам.
Он обратился ко мне:
— Неужели мне придется здесь кончить свой жизненный путь, Матти?
— Отдохни, Лейно, мы еще потанцуем на свадьбах в Гельсингфорсе, Выборге и Або.
Он печально помотал головой и уныло, почти нараспев, повторил свой раздиравший душу вопрос Тойво:
— Неужели мне придется здесь покончить свой жизненный путь, Тойво?
Тойво снял с его колен пулемет и, передав патроны Лейно мне, крикнул:
— Лейно, эй, ты, лыжник! Идем, что ли!
И мы все опять ползли на коленях вперед. Товарищ Хейконен, комрот 1, взял у Лейно лыжи.
— Нам этого подъема не взять, — безнадежно пробормотал Яскелайнен, — мы уже выдохлись; нас к утру перестреляют, как куропаток.
— Брось, Яскелайнен! Партии нужно, чтобы этот подъем мы взяли, и мы его возьмем.
Вперед, несмотря ни на что! Мы проползли уже почти два километра, еще для одного не было уже силы, но подъем здесь, к счастью, кончился.
Вот мы стоим на вершине кряжа. Луна закатывается за дальние леса. Перед нами спуск, а после — ровное большое поле, равнина, лесок, а за тем леском должна быть деревня Пеленга. Весь путь — десять километров. Карельские километры узкие, но длинные, очень длинные.
Я вспоминаю сразу приказ.
Собираю отделение.
Позади слышится неровное, плотное дыхание карабкающихся на коленях.
Рядом стоит Антикайнен с быстрым, но утомленным взглядом.
Мы вышли утром, и скоро начинается новое утро.
— К спуску!
— Ты должен был делать так, — бубнит Тойво, обращаясь к смущенному Лейно: — выбрать себе один камень, как делал я, и думать: «Вот теперь я во что бы то ни стало доберусь до этого камня», и выбрать камень близкий, шагах в десяти от тебя. Ну, до этого камня доберешься — кончено, намечай себе другой, метров так за пять; и опять же, неужели тебе, как бы ты ни утомился, не пройти эти пять метров? Чепуха! Конечно, пройдешь. Ну, прошел — передохни, осмотрись и опять нацелься метров на пять. Поверь мне, как бы ни устал добрый парень, а метров с шесть проползет всегда. Так, глядишь, ты уже на вершине.
Я скомандовал надеть лыжи. И мы пошли вниз.
Лететь вниз — это даже после такого подъема одно удовольствие.
Равновесие у опытного лыжника регулируется как бы автоматически; где надо оттолкнуться, где надо наклониться, даже присесть на корточки, а где можно и прямо стоять, вдыхая морозный воздух.
Неопытного лыжника при спуске может опрокинуть даже едва заметная глазу кочка.
Так и случилось с Тойво.
Он сдуру пошел на спуск первым и, не успев долететь до подошвы, опрокинулся и, дважды перевернувшись в воздухе, отпустив убегающие вниз лыжи, остался лежать в снегу. Следующий за ним парень, споткнувшись о него, брякнулся тоже, на того — второй, третий, образовалась живая барахтающаяся куча с торчащими из снега стоймя штыками, валяющимися остроконечными палками.
«Пуще всего не хочу я погибать от такого дела», — мелькнуло у меня в голове, и в мгновение, равное, может быть, одной тысячной доле секунды, я оглянулся и увидел, что по этому следу, проложенному Тойво, вслед за мной быстро-быстро по склону скользит уже десятка два бойцов.
Катастрофа, катастрофа!
Кто сумеет на лету свернуть в сторону, обогнуть эту живую, барахтающуюся кучу людей, штыков, подсумков, лыж, палок, гранат?
Но в то же мгновение шедший впереди меня Лейно изогнулся и, напрягая все свои силы, свернул в сторону.
Я не знаю, сумел ли бы сделать такой поворот кто-нибудь другой.
По следу Лейно проскочил я, за мной по проложенной лыжнице пролетели другие.
Вперед! Останавливаться нельзя!
Я собрал отделение и повел.
Кроме царапин, полученных в этой свалке, к счастью неглубоких, никаких ранений ни у кого не было. Если бы, однако, куча выросла, несколько глубоких ран — в лучшем случае — было бы не избежать.
— Из-за твоего обмана, из-за твоей глупой настойчивости чуть не произошла катастрофа, — сказал я Тойво, — ты сам легко мог сломать себе шею.
— Ну, нет, здесь я не погибну, — пытался отшутиться Тойво. — Моего брата и то только мог взять снаряд кронштадтской восьмидюймовки, а ведь он был только лишь простой социал-демократ. А здесь, на фронте, у белых таких орудий и нет, чтобы меня взять... К тому же я коммунист, и меня меньше чем двенадцатидюймовым не возьмешь.
— Потом из-за тебя могли погибнуть и уже не раз... другие товарищи, — резко прервал друга Лейно.
— Ты прав, Лейно, — уже извиняющимся тоном, смущаясь, отвечал Тойво. — Но теперь уже поздно...
Такого виноватого лица я до сегодняшнего дня у Тойво никогда не видал.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Встреча с лахтарями. Буденновец
Отряд получил часовой отдых.
Мы же, назначенные в разведку, должны были итти немедленно. И мы пошли.
Я разделил отделение. Отделение шло на полкилометра позади меня под командой Лейно. Сам же я отправлялся в разведку, вперед.
Путь шел сквозь бездорожный лесок.
Мерно раскачивались, осыпая снег, мохнатые ветви.
Проходили стволы, шуршал уминаемый лыжами снег.
* * *
Точно так же, около года назад, я находился в глубокой разведке. Тогда наша разведка-рейд должна была отрезать подвоз из Финляндии в бунтующий Кронштадт; подвоз шел по льду Финского залива, Маркизовой лужи. И вот я увидел близкие огни поселка Инно. Я сам оттуда родом, и вся моя семья проживала там, и по сей день там живет отец-старик с матерью. И Айно, моя Айно, тоже — я знал — жила тогда со стариками. Наш дом стоит у самого берега моря, и берег этот был от меня всего лишь в тысяче метров. И окна дома нашего были освещены. И я пошел ближе к берегу, стараясь в тишине морозной ночи услышать скрип полозьев саней, везущих продовольствие «клешникам». Я подошел близко к берегу, выполняя задание разведки. Дом отца (все воспоминания детства) был всего в ста метрах от меня.