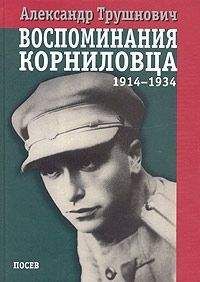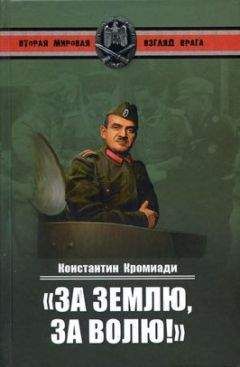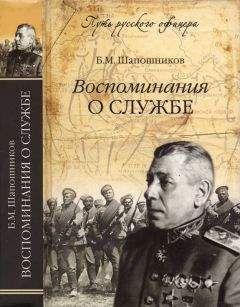Священника вскоре снова арестовали. В подвале Екатеринославского ГПУ он заболел, и ему разрешили лежать дома, но приставили “дежурную сестру”. Что это означало, он и его близкие хорошо понимали. Последние его слова были о Христе и о России.
В Кубанской области на наших глазах в течение нескольких лет проходила жизнь нескольких священников. Они были отверженными, лишенцами, не имели никаких прав, их дети не могли ни учиться, ни поступать на службу. Их вызывали по ночам, часто по вымышленным делам, издевались, богохульничали, грязно ругались. Налоги на церкви, которые числились среди кабаков и увеселительных заведений, накладывали произвольно, и очень высокие для того, чтобы закрыть их за неуплату. Небольшая деревянная церковь у нас в Приморско-Ахтарской была давно закрыта. Большую каменную закрывали четыре раза, и каждый раз верующие собирали требуемую сумму. Однажды конюх совета с женой начали переносить к себе из церкви ценные лампады. Заметивший это человек взбежал на колокольню и ударил в набат. От самосуда сбежавшихся крестьян воров спас священник,
Дочь священника приняли на службу только после того, как она доказала, что не встречалась с родителями пять лет и на собрании осудила деятельность отца-“попа”. Тайно встречаться с отцом ей помогали, главным образом, крестьяне. Она была моей пациенткой и приходила на прием по вечерам. У нас иногда уже ждал ее отец. После свидания она спешила уйти, а его мы приглашали на чай. Он как-то сказал:
— Напрасно советская власть нас преследует. Мы бы и за нее молились. Ведь всякая власть от Бога.
— Как, и советская?
— Ну да, и советская.
В 192 8 году один “служитель культа” сбросил во время богослужения облачения и стал призывать народ оставить Церковь “этот очаг обмана и лжи”. Крестьяне выкинули его из храма. А советская власть наградила хлебной карточкой, которой у него, как у лишенца, до тех пор не было, и избирательным правом — голосовать, как укажет партия. Он открыл парикмахерскую (был еще НЭП), где работал до начала коллективизации. Узнав, что он в списке выселяемых, бежал на Кавказ и умер там от тифа.
Третий “служитель”, сребролюбец и пьяница, жил мыслью о материальном благополучии. Когда начались гонения, он отрекся от сана и куда-то уехал.
Четвертый скрылся ночью, сказав о своем уходе только близким родственникам. Потом я узнал, что он стал хлеборобом.
В нашем районе скрывались два священника, “чужих”, прибежавших к нам издалека. В мое время их еще не обнаружили. Как жили другие наши пастыри? Как-то вечером меня позвали к священнику, которого я очень уважал. За месяц до этого я видел у него еще какую-то мебель, сейчас же остались нары, стол и две табуретки. Стены были голыми и только в углу висели икона и зажженная лампада.
— Спасибо, доктор, что пришли, хотя знаете, что с нами опасно разговаривать. Видите, как живет русский священник? Все пришлось продать, чтобы уплатить налоги, а теперь продавать уже нечего. Жена при каждом стуке вздрагивает. Уже две недели спим в одежде, чтобы не выгнали в одном белье, как отца Василия. Его взяли в исподнем и угнали, не дав одеться. У нас в соседней комнате его матушка и двое детей, их выгнали из дому, в чем стояли. Они надеялись, что мы им поможем. Но мы сами ждем, когда и нас выгонят. Вас мы просили прийти, чтобы вы помогли этим несчастным. Девочка заболела, давит в горле, не дифтерит ли? А у ее матери настоящие припадки: рвет на себе платье и беспрерывно плачет.
В пустой комнате на мешках, без постельного белья, лежала женщина лет сорока в заплатанном ситцевом платье, а рядом — большеглазый, худой, бледный четырнадцатилетний мальчик и восьмилетняя миловидная девочка. Ее заболевание, к счастью, не было тяжелым. Я принес лекарства и сидел у них до ночи. Тихо и бесхитростно вспоминал священник людей, положивших жизнь за Христа. В его рассказе шла вереница расстрелянных, замученных, высланных, бродящих по Руси скрывающихся служителей Церкви:
— Теперь от нас отходят последние сребролюбцы. Мы же будем с нашей верой до самой смерти. Русский народ, надо думать, проходит посланное Богом испытание. И не нам дано уразуметь пути Господни.
Священник с сыном пришли ко мне днем, при людях:
— Теперь все равно. Сыну четыре года удавалось скрывать свое происхождение, через год должен был закончить техникум. И вот — донесли. Теперь конец учению, а на службу его не примут. Помогите ему! Он хочет пробраться в Закавказье. Но там, говорят, сильная малярия. Нам хинина не продадут, да и купить его не на что. Вот, видите, до чего мы обносились!
Потупленная голова, привыкшая переносить гонения и насмешки, латаная-перелатаная ряса с рваными полами, стоптанные сапоги, на одном вместо подметки подвязанные шпагатом тряпки…
— Отец, а почему бы и вам не уехать? Я подозреваю, что вас хотят устранить. Вы же знаете, на что они способны.
— Пастырь не смеет оставлять свое стадо, когда появляется волк. Народу мы теперь больше всего нужны. А к смерти мы давно готовы.
Вскоре она и пришла, избавительница. Весной 1930 года, по ночам, с обысками ходили группы коммунистов. Был издан, но не опубликован указ, запрещавший держать у себя серебряные деньги. Пожертвованные гривенники и полтины нашли, понятно, почти в каждой церкви. Настоятелей арестовали, а особенно нежелательных для власти расстреляли.
Нашего священника тоже взяли, через три дня расстреляли и зарыли невдалеке от тюрьмы в яму с другими семью священниками. Всем была оказана большая “милость”: их зарыли в одежде. Причина этого, я думаю, понятна.
Во время НЭПа большевики ослабили террор и пытались одолеть Бога словом так, как они одолели старую власть России. В течение нескольких лет всюду шли открытые диспуты между духовенством и богоборцами.
С трудом я пробрался в большой зал театра. Первым с часовой речью выступил член райкома, глава местных безбожников. Он то пытался разжечь страсти, крича, что каждому пионеру теперь известно, что Бога нет, а партия постарается, чтобы его и не было, то излагал давно известные мысли грубого материализма, блуждая между трех безбожных сосен: Энгельсом, Геккелем и Древсом. Рукоплескали распределенные по залу коммунисты и комсомольцы. Большинство молчало.
Выступил священник, побывавший в подвале, благочестивой внешности, но плохой оратор. Он запинался, полемизировать не умел, необходимой литературы не знал. Но когда он, волнуясь и возвысив голос, закончил словами “будем благословлять Господа ныне и присно и во веки веков!”, зал загремел рукоплесканиями и долго не мог успокоиться. Настало время, когда народ снова нашел Бога и Церковь и ждал от священников не столько красноречия, сколько уверенно, всенародно произнесенных слов: “Есть Бог и русская православная Церковь!” Слово “русский” в противовес внесенному революцией “международный” стало звучать все чаще. Я знал бывших революционеров и атеистов, ставших верующими и относившихся к большевикам гораздо хуже, чем когда-то к царскому правительству. Православие, окруженное ореолом мученичества и гонимое теми, кого все ненавидели, становилось символом всего русского и антисоветского.
В 1925 году Россию объезжал “профессор Ардов, представитель швейцарского центра безбожников”. Во время выступления, где присутствовал и я, девушки узнали в нем знакомого из Могилева. Он ловко связывал антирелигиозную аргументацию с верноподданными чувствами к Третьему интернационалу. У присутствующих не было охоты возражать, и большевики истолковали это как победу.
Старые священники были в тюрьме или ссылке, а местный живоцерковник, не решаясь выступить из-за недостатка знаний и боясь испортить отношения с властями, пригласил из Москвы “митрополита Александра Ивановича” Введенского. Безбожники же мобилизовали еще одного “первоклассного работника”, редактора газеты Письменного. “Заграничный профессор” выступил первым и вначале держался в рамках приличия. Но затем ненависть к христианству взяла верх и он назвал Евангелие “идиотской выдумкой”. Зал, в котором было около двух тысяч человек, негодующе загудел.
Вышел Введенский, воцарилась мертвая тишина. Его речь разочаровала. Использованная им аргументация была бы позволительна в кружке спорящих интеллигентов, а народ жаждал прямых и твердых слов о Боге и Христе. Ропот недовольства усилился, когда Введенский, обращаясь к ложе, где сидел Письменный, сказал, что “по существу, мы такие же коммунисты, как и вы” и что “Христа следует понимать как одного из основоположников коммунизма”. Это вызвало не только протесты зала, но еще и справедливые насмешки коммунистов. Живоцерковникам никак не удавалось служить одновременно и Богу и черту.
В дальнейшем Введенский уже не любезничал с коммунистами, а держался абстрактных доказательств существования Бога и культурных основ христианства. Каждый раз, когда его умозаключения утверждали Бога, его бурно одобряли. Но чувствовалось, что одобрение это было не столько в защиту веры, сколько демонстрацией против коммунистов.