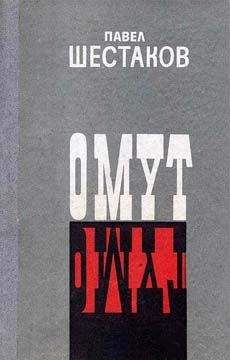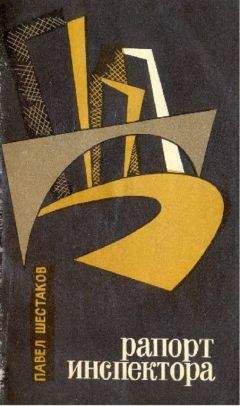— Ан нет, ан нет, — бормотал Степан, поднимаясь с забытой уже почти подвижностью, — мы еще посмотрим, бандит большевистский, кто раньше богу душу отдаст.
И он с отвращением вышвырнул из фуражки бандитское подаяние.
Степана не обескуражило, что машина с Константином уже исчезла в ближайшей улице. Он помнил, откуда приглашали к бургомистру монтера…
Погони не было. Они проехали по городу разными улицами. Машина с Константином и Лаврентьевым — к морю, чтобы инсценировать там гибель Лаврентьева. Машины с немецкими солдатами — к дому Пряхина.
К несчастью, Константин и Лаврентьев добрались домой раньше…
Впервые за бесконечно долгое время Лаврентьев находился среди своих, и это было так ошеломляюще радостно, что даже боль его притупилась, посветлело на сердце.
Максим Пряхин с некоторым удивлением уважительно рассматривал молодого «немца», думая про себя: «Нет, не одолеет фашист, вишь, сколько народу против него, в самом гестапо наши…»
А Константин с удовольствием ел горячую картошку с солью, проголодавшись за время ожидания на спуске, и, не допуская мысли о плохом, прислушивался, ожидая Шумова. Он первым уловил гул моторов.
— Что это?
Они переглянулись с отцом. Ясно было: приближались машины.
— Спокойно, ребята, — сказал Максим. — Если к нам, вы уходите первыми.
Они еще надеялись, что шум пройдет стороной, но он уже катился по улице.
— В колодец! Быстро! — скомандовал Максим.
Приоткрыв штору, он увидел в окно, как из первой остановившейся машины выпрыгивают вооруженные солдаты.
— Быстро! — повторил он, понимая, что происходит худшее: за сыном его пришли.
— Батя!
Константин стоял с прилипшей к пальцам картофельной шелухой.
— Цыц! Уговор помнишь? О деле думай! — Он махнул рукой в сторону Лаврентьева.
Они не простились и не обнялись перед смертью, каждая секунда была на счету.
Когда Константин и Лаврентьев выскочили во двор и нырнули я черную дыру, в парадное уже громыхали приклады, вышибая запертую на засов дверь.
Максим взглядом окинул дом, где предстояло ему на короткие, но необходимые минуты задержать превосходящего врага. Это был его дом, фотографии жены и сына смотрели со стен зала, и ему стало легче. Снова, как в молодости, понятно было, за что нужно биться, и ушли сомнения, сменившись решимостью…
Дверь затрещала, выбитые доски полетели внутрь, в темный коридор, но засов еще держался, и один из немцев просунул руку и отодвинул его. Однако солдаты замешкались на пороге. Если вы Максим понимал по-немецки, он разобрал бы такие фразы:
— Здесь никого нет.
— Они спрятались. Разве ты не видишь, что дверь заперта изнутри?
— Из дому можно уйти через двор.
— Вперед, вперед!
Максим не понимал их языка. Не нужен ему был и перевод. Отступив в спальню, он стоял за портьерой, сжимая в руках оружие.
— Эй, рус! Сдавайс!
Он не ответил, дожидаясь, когда они пройдут в дом.
И они вошли, помешкав еще чуть-чуть, но команда подхлестнула солдат, и они ринулись вперед, опустив автоматы, готовые к немедленной стрельбе в случае сопротивления.
Быстро наполнялась пустая комната, солдаты вновь замешкались в непонятной тишине, а Максим, не видимый ими, шептал про себя:
— Ну еще, еще…
Весь он был уже во власти боя, когда забывается все, кроме единственного: враг перед тобой, и ни тебе от него, ни ему от тебя пощады ждать не приходится.
— Собрались, гады!
Стоявшие вокруг стола с недоеденной картошкой солдаты разом повернулись к двери в спальню, и тогда он, отбросив портьеру, нажал на спусковой крючок пулемета. Стальная машина задрожала в его руках, изрытая пламя, полетели веером горячие гильзы, и Максим вдохнул пороховой дым, сладкий запах его геройской молодости.
Струя свинца смела солдат, столпившихся в комнате, и он двинулся через зал, поливая огнем тех, кто успел выскочить в прихожую.
— Вон отсюдова! Вон, сволота!
Вдруг наступила тишина. Смертоносный запас, собранный в круглом диске, кончился, и Максим остановился посреди комнаты, победитель в последнем бою, изгнавший врага из своего дома. Он собирался вставить новый магазин и оборонять освобожденный дом, но не успел.
Среди тех, кого не убил Максим, был молодой солдат, почти мальчик, родители которого и младшая сестра погибли во время английской бомбежки. Солдат этот всем сердцем ненавидел англичан и всех, кого считал наймитами английских плутократов. Недавно он видел карикатуру, на которой был изображен дикого вида бородатый человек, символизирующий Россию. Бородатого человека колотил прикладом бравый немецкий солдат, а тот в мольбе протягивал руки к мешку, из которого сыпал золото толстый Джон Буль. И мальчик чувствовал себя таким бравым солдатом и готов был ежеминутно лезть в самое пекло, чтобы побеждать и убивать врагов своей страны. Несмотря на молодость, он был опытным и сообразительным солдатом и не растерялся под пулеметным огнем, а, отскочив в безопасное место, выбрался на улицу, обошел дом и увидел в окно замершего в комнате Максима. Сноровистым солдатским движением рука его нащупала гранату на длинной деревянной ручке.
Граната пробила стекло и упала к ногам Максима.
— Что это? — не понял он, возбужденный боем и победой, и посмотрел не на гранату, а недовольным хозяйским взглядом на разбитое окно.
Грохочущий огонь ударил его снизу и убил наповал.
А следом в окна летели другие, ненужные уже гранаты, которые бросали теперь со всех сторон, и дом дрожал от взрывов, разносивших вдребезги все, что недавно еще было так дорого Максиму Пряхину.
…Услыхав пулемет, Лаврентьев и Константин остановились.
— Батя! — сказал Пряхин.
Непрерывная очередь в доме точно преградила им дорогу. Оба не двигались в короткой тишине.
Потом они услышали взрывы. Сначала один и следом сливающийся грохот многих. Все снова затихло. Константин опустил голову.
— Все. Прикончили. У бати гранат не было.
— Идем, Костя, — попросил Лаврентьев.
— Не пойду.
— Мы должны…
— Ты должен, а не я. Я должен расквитаться.
— Ты не имеешь права…
— Имею. Это мой дом и мой отец. А ты иди. Немедленно, слышишь? Ты нужнее. Будешь их изнутри… А я отсюда. Сейчас.
— Константин!
— Молчи. Нашим скажешь, что не дезертир Константин Пряхин. Иди. — Он прислушался. — Самый раз… Они меня не ждут. Да иди же ты, иди! Не висни на душу. Прощай! У меня тут ящик с «лимонками». Они свое получат. За все. За батю.
Он нагнулся и стал рассовывать по карманам тяжелые гранаты.
Через несколько минут одна из них чугунным осколком перебьет переносицу и оборвет жизнь молодого солдата, убившего Максима. И будет много других убитых и раненых, прежде чем окруженный, плавающий в крови Константин Пряхин не прижмет слабеющей рукой к сердцу пистолет и не израсходует последний в этом бою патрон…
Машина подъехала к месту съемки за считанные минуты до того, как солнце снизу, из-под земли, коснулось горизонта. Все уже были на объекте, и Базилевич, с демонстративным спокойствием лузгавший семечки, говорил своему помощнику из администрации:
— Посмотри на часы, Сема. Я уверен, что он опоздает. Если съемка сорвется, немедленно телеграмму в Москву…
Но съемка не сорвалась. Актер первым вышел из машины и спросил, оглядывая площадку:
— Как боевая готовность?
Базилевич не удержался, буркнул:
— Заждались.
— Все нормально, — возразил режиссер.
Актер улыбнулся. Он много снимался и давно выработал иммунитет к подобным стычкам.
— Тогда к оружию, — сказал он примиряюще.
Унылый Прусаков, который считал, что всегда добросовестно исполняет служебные обязанности, и был по этой причине постоянно недоволен собой, полагая, что «другие умеют устраиваться», а он нет, подтащил тяжелый для него пулемет с диском.
— Давненько не брал я в руки шашек, — сказал актер, принимая оружие.
— Знаем, как вы плохо играете, — в тон ему ответил режиссер.
Он знал, что во время войны актер был пулеметчиком.
Все быстро занимали свои места, все смотрели на восток в последнем коротком ожидании солнца. И оно не подвело. На горизонте возникла неровная в утренней дымке темно-красная кромка и тут же стала превращаться сначала в полукружие, а потом и в огненный, светлеющий постепенно шар.
Хлопушка отбила кадр, и актер повел перед камерой загрохотавшим стволом. Это выглядело странно: вокруг не было никаких немцев — их предполагалось снять отдельно — вокруг стояли люди, в большинстве не нюхавшие пороху, в модных рубашках и джинсах; стояла неуклюжая осветительная аппаратура — жаркие диги, стояла совсем не воинственно стрекочущая камера; стояли неизвестно откуда взявшиеся в столь ранний час зеваки — все это было так непохоже на то, что помнил Лаврентьев, и все-таки… Подойдя поближе, он посмотрел в лицо актера, и неожиданно остальное, мешающее, отступило, на несколько секунд он увидел только это лицо, и пулеметный ствол, и тяжело нависший за спиной актера солнечный круг и поверил, что видит Максима Пряхина. Минуты из прошлого и нынешнее мгновение слились, прошли перед ним короткой серией кадров: Максим, улыбаясь, с любопытством разглядывает его на пороге дома: жилистые руки подкладывают ему в тарелку горячий, прямо из чугуна, картофель; суровые складки на лице Максима, когда он вслушивается у окна в гул приближающихся машин, и вот это… то, что он не увидел тогда, — человека, возвысившегося наконец над сумятицей и невзгодами путано прожитой жизни, обороняющего своего сына, свой дом, свою землю и это неласковое к нему солнце…