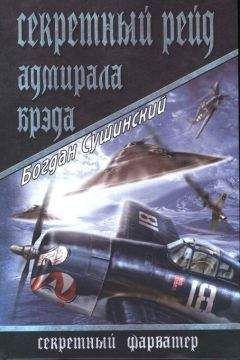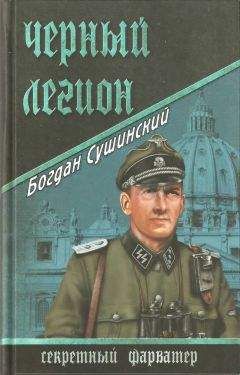Только сейчас он повнимательнее присмотрелся к лицу, ко всему облику «великого дуче». Слегка утолщенный, неримский нос; теперь уже вновь плотно сжатые, выпяченные мясистые губы, бутербродно нависающие над срезанным подбородком. Шалашиком сомкнутые над переносицей брови, под которыми антрацитово чернели большие, слезящиеся глаза.
— Какой именно приказ вы… получили? — Капитан мог поклясться, что Муссолини вымолвил эти слова, нр разжимая губ. Словно чревовещатель.
— Что вас интересует?
— Этот приказ касается меня?
— Вас, естественно, — Ринченци понимал, что именно имеет в виду этот перепуганный человечек. Какого ответа он добивается. Но как же приятно было поиграть на нервах некогда могущественного дуче!
— И вам сказано, что вы можете?..
— Думаю, что вашим палачом будет кто-то другой, синьор Муссолини, — «сжалился», наконец, капитан. — Меня такая участь не прельщает.
Еще несколько мгновений Муссолини недоверчиво всматривался в глаза капитана. Потом лицо его вдруг размякло, просветлело, словно с него кто-то сорвал маску страха, и правая щека нервно задергалась, воскрешая нечто отдаленно напоминающее человеческую улыбку.
Между распахнутыми полами измятого пальто Муссолини виднелся френч цвета хаки, с загнутыми, изжеванными уголками накладных карманов. У капитана, потомственного военного, всегда отличавшегося исключительной аккуратностью, такая небрежность и вообще сама эта вольность — соединить офицерский мундир с гражданским пальто и шляпой — вызывали чувство презрения, слегка припудренного снисходительностью.
В то же время сам арестованный воспринимал отношение к себе Ринченци по-иному.
«А ведь я все еще обладаю силой воздействия на него, — самолюбиво размышлял дуче. — Шок, вызванный страхом перед рукой, лежащей на расстегнутой кобуре, постепенно проходил, и к Муссолини возвращалась способность осмысливать все происходящее более раскованно. — Он ведь и в самом деле намеревался пристрелить меня. Вместе с духом дьявола в этого карабинера вселился и дух Герострата. Убить Муссолини — значит обессмертить себя. Еще бы: убить Муссолини!.. К счастью, я не потерял способности усмирять этих червей».
«К Наполеону тоже подсылали убийц, — вдруг вспомнилось Муссолини. — Сколько их было! — все еще не сводил глаз с капитана. — И что же? Ни один из них так и не решился нажать на спусковой крючок пистолета. Понимали, сколь прокляты будут потомками. Прокляты и презираемы!»
— Господин Муссолини.
«А может, и не понимали, — не отреагировал дуче. — На них гипнотически воздействовала сила личности императора. Вот именно: императора».
— У вас в запасе пятнадцать минут, — начальственно предупредил его Ринченци, заявляя о своих обязанностях.
Муссолини посмотрел на него с нескрываемым сожалением. Он, эта мразь в офицерском мундире, смеет указывать ему. Дуче смерил Ринченци откровенно презрительным взглядом и отвернулся.
«Наполеон Бонапарт! — вновь осенило его. — Господи, да ведь все это уже было! Почти так же. Поражение. Завистники. Предатели. Арест. Ссылка на остров».
Если несколькими минутами раньше Муссолини упомянул Наполеона совершенно случайно, то теперь обратился к его имени с тем же благоговением, с каким истинный христианин в самые трудные минуты своей жизни обращается к образу Христа.
Наполеон Бонапарт… Как ему раньше не пришло в голову? Он должен был обратиться к личности, духу этого гордого корсиканца значительно раньше. Еще в день ареста. Или по крайней мере находясь на Санта-Маддалене, всего в нескольких милях от родины Наполеона. Вот кто придал бы ему силы духа. Вот чей крест он должен подхватить сейчас, чтобы нести на Голгофу народного героя Италии, его мученика.
Нет, подумать только: какая изысканная историческая параллель! Как одинаково — по-житейски жестоко и в то же время, с точки зрения Вечности, величественно — повторяется история в судьбах великих людей!
Конечно, его, Бенито, враги, — теперь уже дуче взглянул на отступившего на несколько шагов капитана с почти отцовской жалостью, — пока что торжествуют. Еще бы: великий дуче повержен! Только не пора ли им вспомнить о поверженном Наполеоне времен его ссылки на Эльбу?
Странно, как это Бадольо не пришла в голову мысль сослать его на тот же остров, что и Наполеона? Побоялся исторических аналогий? А ведь была кратковременная остановка на каком-то островке Тосканского архипелага неподалеку от Эльбы. Аналогий они пугаются, предатели! Но он еще вернется в Рим, и тогда…
Они должны помнить: ссылка на Эльбу закончилась триумфальным шествием Наполеона на Париж. И еще были сто дней. Правда, они закончились шестью годами Святой Елены. Но это наступило потом. Сначала все же мир стал свидетелем беспримерного, потрясшего всю Европу, марша на Париж. И ста императорских дней.
Над соседней, укутанной легким туманом, вершиной прошлось звено военных самолетов. По очертаниям Муссолини определил, что это штурмовики.
Миновав вершину, они начали сворачивать в сторону Абруццо и при этом снижаться, направляя машины на исполосованный террасами склон какой-то небольшой, по-верблюжьи двугорбой, горы. Пилоты вели свои машины медленно и торжественно, словно совершали ритуальное самоубийство.
Но не совершили. Не хватило мужества. Как несколько минут назад не хватило такого же мужества ему самому. Мужества достойно избавить себя от позора арестанта.
Дойдя почти до склона, летчики резко подняли машины и повели их с натужно ревущими моторами ввысь, к небесам, к жизни — какой бы горькой и несуразной она им ни казалась.
«К жизни — какой бы горькой и несуразной она ни казалась», — повторил про себя Муссолини. — Этот девиз и стал последним оправданием его малодушия.
В офицерском отеле возле аэродрома в Рангсдорфе Штубера встретил дежурный офицер и сразу же направил в небольшой, отделенный от общего, банкетный зал, где уже находились двенадцать офицеров, в основном эсэсовцев, и один человек в штатском, но тоже с заметной офицерской выправкой. Двоих из них — Хетля и Ланцирга — он знал. Когда-то в составе диверсионной группы их вместе забрасывали в партизанский район в горах Боснии.
Встретили они Штубера объятиями, хотя и не забыли представиться под своими давнишними кличками: Корсар (Хетль начинал карьеру морским офицером и в диверсионный отряд попал, говорят, по протекции кого-то из приближенных адмирала Канариса) и Мулла. «Муллой» Ланцирга окрестили после того, как в одном из хорватских городков, гарнизон которого трое суток осаждали партизаны, он взобрался с пулеметом на минарет и просидел там до прихода карательного батальона, не произведя ни единого выстрела, ибо для его пулемета партизаны так и остались недосягаемыми.
Еще не зная сути операции, в которой им предстоит принимать участие, они тем не менее уже не сомневались, что вылетать придется в одну из стран, не входящих в конгломерат рейха, а потому предпочитали предстать перед группой под кличками. На всякий случай.
— Беркут, — в свою очередь отрекомендовался Штубер им и другим подошедшим офицерам.
— Мы-то тебя знали как Грифа, — заметил Корсар.
— В этом мире все так изменчиво, — загадочно улыбнулся Штубер. Он на минутку представил себе, каким было бы изумление того, другого Беркута, русского лейтенанта Громова, узнай тот вдруг, где и при каких обстоятельствах будет использована его кличку.
— Особенно что касается биографий и кличек диверсантов, — согласился с ними Мулла.
— Кто бы мне назвал вон того господина в штатском? — тотчас же поинтересовался Штубер, стремясь как можно скорее перевести разговор в другое русло. Не объяснять же этим двоим историю своего псевдонима. — Был бы он в офицерском мундире, я, возможно, и узнал бы его. Во всяком случае, лицо кажется знакомым. Но держится он как-то слишком уж отстраненно от всего, что здесь происходит.
— О, это тот самый Стефан Штурм, — вполголоса объяснил один из троих подошедших офицеров, назвавшийся Мюллером. Во время восхождения Гитлера на политическую пирамиду штурмовики из отрядов СА почти сплошь предпочитали представляться «Мюллерами». Похоже, эта традиция начала приживаться и в отрядах СС.
— «Тот самый»?
— Нуда.
— Вот насколько я отстал от всего, что происходит сейчас в рейхе… Даже не попытаюсь вспомнить, потому что это бессмысленно. Россия, знаете ли. Вести из рейха доходят, как с того света.
— Так ты из России? — вмешался в их разговор Мулла. — Прямо оттуда?
Однако Штубер не ответил, и это дало возможность Мюллеру продолжить представление «штатского».
— Я тоже знаю о нем не так уж много. Стефан Штурм, Он же Эрнст (сейчас он нам представился именно так), он же знаменитый Виммер-Ламквет[80], специалист по Восточной Африке.